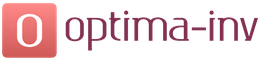Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине XIX века. Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине XIX века Сопоставление творчества П
Поражение Наполеона у Ватерлоо и последовавшая за этим реставрация Бурбонов принесли лучшим умам Франции разочарования в возможном переустройстве общества, о котором еще так страстно мечтали просветители XVIII столетия. С крушением общественных идеалов разрушались и основы классицистического искусства. В адрес школы Давида все чаще слышались упреки. Рождалось новое мощное течение во французском изобразительном искусстве - романтизм.
Романтическая литература Франции: сначала Шатобриан с его программным произведением эстетики романтизма «Гений христианства» (1800-1802), затем наиболее передовое крыло-Ламар-тин, Виктор Гюго, Стендаль, Мюссе, в раннем творчестве - Флобер, Теофиль Готье, Бодлер, как и английские романтики, прежде всего Байрон и Шелли,-имела громадное влияние на художественную культуру всей Европы. Но не только литература. Изобразительное искусство Франции эпохи романтизма выдвинуло таких крупных мастеров, которые определили главенствующее влияние французской школы на все XIX столетие. Романтическая живопись во Франции возникает как оппозиция классицистической школе Давида, академическому искусству, именуемому «Школой» в целом. Но понимать это нужно шире: это была оппозиция официальной идеологии эпохи реакции, протест против ее мещанской ограниченности. Отсюда и патетический характер романтических произведений, их нервная возбужденность, тяготение к экзотическим мотивам, к историческим и литературным сюжетам, ко всему, что может увести от «тусклой повседневности», отсюда эта игра воображения, а иногда, наоборот, мечтательность и полное отсутствие активности. Идеал романтиков туманен, оторван от реальности, но всегда возвышен и благороден. Мир в их воображении (и соответственно изображении) предстает в непрерывном движении. Даже излюбленный классицистами мотив античных руин, трактуемый ими как символ неувядаемости вечности, превращается у романтиков, как тонко подмечено, в символ бесконечного течения времени.
Представители «Школы», академисты восставали прежде всего против языка романтиков: их возбужденного горячего колорита, их моделировки формы, не той, привычной для «классиков», статуарно-пластической, а построенной на сильных констрастах цветовых пятен, их экспрессивного рисунка, преднамеренно отказавшегося от точности и классицистической отточенности; их смелой, иногда хаотичной композиции, лишенной величавости и незыблемого спокойствия. Энгр, непримиримый враг романтиков, до конца жизни говорил, что Делакруа «пишет бешеной метлой», а Делакруа обвинял Энгра и всех художников «Школы» в холодности, рассудочности, в отсутствии движения, в том, что они не пишут, а «раскрашивают» свои картины. Но это было не простое столкновение двух ярких, абсолютно разных индивидуальностей, это была борьба двух различных художественных мировоззрений.
Борьба эта длилась почти полстолетия, романтизм в искусстве одерживал победы не легко и не сразу, и первым художником этого направления был Теодор Жерико (1791-1824) -мастер героических монументальных форм, который соединил в своем творчестве и классицистические черты, и черты самого романтизма, и, наконец, мощное реалистическое начало, оказавшее огромное влияние на искусство реализма середины XIX в. Но при жизни он был оценен лишь немногими близкими друзьями.
Жерико получил образование в мастерской Карла Берне, а затем прекрасного педагога классицистического направления Герена, где усвоил крепкий рисунок и композицию - основы профессионализма, которые давала академическая школа. Караваджо, Сальватор Роза, Тициан, Рембрандт, Веласкес - мастера мощного и широкого колоризма привлекали Жерико. Из современников наибольшее влияние в ранний период на него имел Гро.
В Салоне 1812 г. Жерико заявляет о себе большим полотном-портретом, носящим название «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку». Это стремительная, динамическая композиция. На вздыбленном коне, развернувшись к зрителю корпусом, с саблей наголо представлен офицер, призывающий солдат за собой. Романтика наполеоновской эпохи, такой, как ее представляли современники художника, выражена здесь со всем темпераментом двадцатилетнего юноши. Картина имела успех, Жерико получил золотую медаль, но государством она приобретена не была.
Т. Жерико. Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку. Париж, Лувр
Зато следующее большое произведение - «Раненый кирасир, покидающий поле боя» (1814) потерпело полную неудачу, ибо многие увидели в фигуре воина, с трудом спускающегося со склона и еле удерживающего коня, определенный политический смысл - намек на разгром Наполеона в России, выражение того разочарования в политике Наполеона, которое испытывала французская молодежь.
1817 год Жерико проводит в Италии, где изучает искусство античности и Возрождения, перед которыми преклоняется и которые, как признавался сам художник, даже подавляют своим величием. Жерико многое сближало с классикой и классицизмом. Знаменательно, что не Энгр, любимый ученик Давида, навещал последнего в изгнании, а художник совершенно другого идейного лагеря, иных эстетических позиций - Жерико: в 1820 г. специально для свидания с главой классицистической школы он ездил в Брюссель. Ибо, как верно писал один из исследователей творчества Жерико, оба (Жерико и Давид.- Т. И.) были выразителями революционных тенденций, и это их сближало. Но они были выразителями этих тенденций в различные эпохи, и это обусловливало различие их идейно-художественных стремлений. Точный рисунок, четкий контур, пластичность форм, моделированных светотенью, а главное -тяготение к монументальному, эпическому, к образам широкого общественного звучания роднили Жерико с Давидом.
Жерико настойчиво ищет героические образы в современности. События, происшедшие с французским кораблем «Медуза» летом 1816 г., дали Жерико сюжет, полный драматизма и привлекший внимание общественности. Фрегат «Медуза» потерпел крушение у берегов Сенегала. Из 140 человек, высадившихся на плот, лишь 15 полумертвецов подобрал бриг «Аргус» на двенадцатый день. Причину гибели усматривали в непрофессионализме капитана, получившего это место по протекции. Общественность, оппозиционно настроенная к правительству, обвинила последнее в коррупции. В итоге длительной работы Жерико создает гигантское полотно 7х5 м, на котором изображает немногих оставшихся на плоту людей в тот момент, когда они увидели на горизонте корабль. Среди них мертвые, сошедшие с ума, полуживые и те, кто в безумной надежде всматривается в эту далекую, едва различимую точку. От трупа, голова которого уже в воде, взгляд зрителя движется дальше к юноше, ничком упавшему на доски плота (натурой Жерико послужил Делакруа), к отцу, держащему на коленях мертвого сына и совершенно отрешенно глядящему вдаль, и затем к более активной группе - смотрящих на горизонт, венчаемой фигурой негра с красным платком в руке. Среди этих людей и подлинные портретные изображения - инженера Корреара, указывающего на корабль стоящему у мачты врачу Савинъи (оба - оставшиеся в живых очевидцы катастрофы).

Картина Жерико написана в суровой, даже мрачной гамме, нарушаемой редкими вспышками красных и зеленых пятен. Рисунок точный, обобщенный, светотень резкая, скульптурность форм говорит о прочных классицистических традициях. Но сама современная тема, раскрытая на бурном драматическом конфликте, который дает возможность показать смену разных психологических состояний и настроений, доведенных до крайнего напряжения, построение композиции по диагонали, усиливающее динамический характер изображаемого,-все это черты будущих романтических произведений. Через пять лет после смерти Жерико именно к этой картине был применен термин «романтизм».
Критика приняла картину сдержанно. Страсти вокруг нее были чисто политическими: одни видели в избрании художником этой темы проявление гражданского мужества, другие - клевету на действительность. Но так или иначе Жерико оказался в центре внимания, среди людей, оппозиционно настроенных к существующим государственным порядкам, и привлек внимание передовой художественной молодежи.
Как и предыдущие, эта картина не была приобретена государством. Жерико уехал в Англию. В Англии он с большим успехом показал свою картину сначала в Лондоне, затем в Дублине и Эдинбурге. В Англии же Жерико создает серии литографий на бытовые темы (литография была абсолютно новой техникой, которой в XIX в. предстояло большое будущее), делает множество рисунков нищих, бродяг, крестьян, кузнецов, угольщиков и всегда передает их с большим чувством достоинства и личного к ним уважения (серия литографий «Большая английская сюита», 1821). Как живописец, Жерико усваивает уроки колоризма английских пейзажистов, прежде всего Констебла. Наконец, в Англии он находит тему своей последней большой картины «Скачки в Эпсоме» («Дерби в Эпсоме», 1821-1823), наиболее простого и наиболее, на наш взгляд, живописного его произведения, в котором он создал любимый им образ летящих, как птицы, над землей коней. Впечатление стремительности усиливается еще и определенным приемом: кони и жокеи написаны очень тщательно, а фон - широко.
Последние работы Жерико по возвращении во Францию в 1822 г.-портреты сумасшедших, которых он наблюдал в клинике своего друга-психиатра Жорже (1822-1823). Из них известно пять: портрет сумасшедшей старухи, называемый «Гиена Сальпетриера», «Клептоман», «Сумасшедшая, страдающая пристрастием к азартным играм», «Вор детей», «Умалишенный, воображающий себя полководцем». Романтикам вообще был свойствен интерес к людям с обостренной психикой, стремление изобразить трагедию сломленной души. Но Жерико работает с натуры, его портреты в итоге превращаются в документальные изображения. Вместе с тем, вышедшие из-под кисти большого художника, они являются как бы олицетворением человеческих судеб. В их трагически-острой характеристике ощущается горькое сочувствие самого художника. Портреты сумасшедших Жерико пишет уже смертельно больным. Последние одиннадцать месяцев жизни он был прикован к постели и умер в январе 1824 г., на 33-м году жизни (вследствие неудачного падения с лошади).
Жерико несомненно явился провозвестником и даже первым представителем романтизма. Об этом говорят и все его большие вещи, и темы экзотического Востока, и иллюстрации к Байрону и Шелли, и его «Охота на львов», и портрет 20-летнего Делакруа, и, наконец, приятие им самого Делакруа, тогда еще только начинавшего путь, но уже абсолютно чуждого направлению «Школы». Колористические поиски Жерико были толчком для колористической революции Делакруа, Коро и Домье. Но такие работы, как «Скачки в Эпсоме», или портреты сумасшедших, или английские литографии проводят от Жерико прямые линии к реализму. Место Жерико в искусстве - как бы на пересечении столь важных путей - и делает особенно значительной его фигуру в истории искусства. Этим же объясняется и трагическое его одиночество.

Э. Делакруа. Ладья Данте. Париж, Лувр

Э. Делакруа. Хиосская резня. Париж, Лувр

Э. Делакруа. Портрет Шопена. Париж, Лувр
Художник, которому предстояло стать истинным вождем романтизма, был Эжен Делакруа (1798-1863). Сын бывшего члена революционного Конвента, видного политического деятеля времен Директории, Делакруа вырос в атмосфере художественных и политических салонов, девятнадцати лет оказался в мастерской классициста Герена и испытал с юношеских лет влияние Гро, но более всего - Жерико. Гойя и Рубенс всю жизнь были для него кумирами. Несомненно, что его первые работы «Ладья Данте» и «Хиосская резня» написаны - при сохранении независимости - прежде всего под стилевым влиянием Жерико. Живущий интенсивной духовной жизнью, образами Шекспира, Байрона, Данте, Сервантеса, Гёте, Делакруа вполне естественно обращается к сюжету великого творения итальянского гения. Он написал «Ладью Данте» («Барка Данте», «Данте и Вергилий», 1822) за два с половиной месяца (размер картины 2х2,5 м), вызвал огонь критики, но с восторгом был принят Жерико и Гро. Впоследствии Мане и Сезанн копировали это раннее произведение Делакруа.
Полотно Делакруа полно тревожного и даже трагического настроения. Тень Вергилия сопровождает Данте по кругу ада. Грешники цепляются за барку. Их фигуры в брызгах воды на фоне адского зарева огней классически правильны по рисунку и пластике. Но в них такая внутренняя напряженность, такая необычайная мощь, мрачность и мучительная обреченность, какие были невозможны для представлений художника «Школы».
Делакруа отвергал данное ему звание романтика. Это понятно. Романтизм как новое эстетическое направление, как оппозиция классицизму имел очень расплывчатые определения. Его считали «независимым от правильного искусства», обвиняли в небрежности рисунка и композиции, в отсутствии стиля и вкуса, в подражании грубой и случайной натуре и т. д. Четкую грань между классицизмом и романтизмом провести трудно. У Жерико живописное начало не превалировало над линейным, колорит - над рисунком, но его творчество связано с романтизмом. Романтики в изобразительном искусстве не имели определенной программы, единственное, что их роднило между собой,-это отношение к действительности, общность миросозерцания, мировосприятия, ненависть к мещанам, к тусклой повседневности, стремление вырваться из нее; мечтательность и вместе с тем неопределенность этих мечтаний, хрупкость внутреннего мира, яркий индивидуализм, ощущение одиночества, неприятие унификации искусства. Не случайно Шарль Бодлер говорил, что романтизм - это «не стиль, не живописная манера, а определенный эмоциональный строй».
Отсутствие программы не помешало, однако, стать романтизму мощным художественным движением, а Делакруа - его вождем, верным романтизму до конца своих дней. Подлинным вождем он становится, когда в Салоне 1824 г. выставляет картину «Резня на Хиосе» («Хиосская резня»).
Картину предваряла интенсивная подготовительная работа, масса рисунков, эскизов, акварелей. Появление картины в Салоне вызвало нападки критики (исследователи пишут, что художника ругали хуже, чем вора и убийцу), но восторженное поклонение молодых перед гражданственной прямотой и смелостью живописца. Картина вызвала также полное смятение в лагере классиков. Недаром, напомним, именно в этом Салоне был впервые признан Энгр. Перед лицом опасности, которую нес «Школе» Делакруа, Энгр, конечно, становился столпом классицизма и не признать его было уже нельзя. «Метеор, упавший в болото» (Т. Готье), «пламенный гений» - такие отзывы о «Хиосской резне» соседствовали с выражениями: «Это резня живописи» (Гро), «...наполовину написанные посиневшие трупы» (Стендаль!). Произведение Делакруа полно истинного, потрясающего драматизма. Композиция сложилась у художника сразу: группы умирающих и еще полных сил мужчин и женщин разных возрастов, от идеально прекрасной молодой пары в центре до фигуры полубезумной старухи, выражающей предельное нервное напряжение, и умирающей рядом с ней молодой матери с ребенком у груди - справа. На заднем плане - турок, топчущий и рубящий людей, привязанная к крупу его коня молодая гречанка. И все это разворачивается на фоне хотя и сумрачного, но безмятежного пейзажа. Природа безучастна к резне, насилиям, безумствам человечества. И человек, в свою очередь, ничтожен перед этой природой. Вспоминаются слова Делакруа из «Дневника»: «...я подумал о своем ничтожестве перед лицом этих повисших в пространстве миров».
Колорит картины претерпевал изменения в отличие от сразу сложившейся композиции: он постепенно высветлялся. Несомненно, огромную роль здесь сыграло знакомство Делакруа с живописью Констебла. Светлая и вместе с тем очень звучная гамма «Хиосской резни» - бирюзовые и оливковые тона в фигурах молодого грека и гречанки (слева), сине-зеленые и винно-красные пятна одежды безумной старухи (справа) - послужила отправной точкой для последующих колористических исканий художников. Так, в буре негодований и в восторженных оценках, в битвах и полемике складывалась новая школа живописи, новое художественное мышление - романтизм с 26-летним Делакруа во главе.
Вслед за Жерико Делакруа также едет в Англию. Английская литература от Шекспира до Вальтера Скотта, английский театр, портретная школа живописи и пейзаж, но более всего поэзия Байрона имели уже огромную популярность на континенте. По возвращении на родину Делакруа сближается с лучшими представителями французской романтически настроенной интеллигенции: Гюго, Мериме, Стендалем, Дюма, Жорж Санд, Шопеном, Мюссе. Он живет английскими литературными образами и английским театром, делает литографии к «Гамлету», изображает байроновского Гяура, но кроме этого пишет «Тассо в доме сумасшедших», изображает Фауста. В Салоне 1827 г. он выставляет свое новое большое полотно «Смерть Сарданапала», навеянное трагедией Байрона. Изображая самоубийство ассирийского царя, он идет дальше Байрона: обречены не только сам царь и его сокровища, но и наложницы, рабыни, слуги, кони - все живое и мертвое. Критика обрушилась на Делакруа за перегруженность композиции, за нагромождение фигур и предметов, за нарушение равновесия. Вернее всего, это было сделано сознательно, для усиления ощущения общего хаоса, конца бытия. Наибольшей выразительности художник достигает цветом. Общее смятение, предельные страсти и бесконечное одиночество ассирийского царя выражены прежде всего цветом необычайной силы и драматизма. Картина Делакруа была освистана и в буквальном смысле, и в переносном -в прессе. (Лувр купил полотно только в 1921 г.). Провал «Сарданапала» лишний раз подчеркнул все усиливающийся конфликт между творческой индивидуальностью и обществом.
Следующий этап творчества Делакруа связан с июльскими событиями 1830 г. Он воплощает революцию 1830 г. в аллегорическом образе «Свободы на баррикадах» (другие названия - «Свобода, ведущая народ», «Марсельеза» или «28 июля 1830 г.»). Женская фигура во фригийском колпаке и с трехцветным знаменем сквозь пороховой дым по трупам павших ведет за собой восставшую толпу. Правая критика ругала художника за излишний демократизм образов, называя самое «Свободу» «босой девкой, бежавшей из тюрьмы», левая упрекала его за компромисс, выразившийся в соединении столь реальных образов - гамена (напоминающего нам Гавроша), студента с ружьем в руках (в котором Делакруа изобразил себя), рабочего и других - с аллегорической фигурой Свободы. Однако взятые из жизни образы выступают в картине как символы основных сил революции. Совершенно справедливо исследователи усматривают в строгом рисунке и пластической ясности «Свободы на баррикадах» близость к давидовскому «Марату», лучшей картине революционного классицизма.
Поездки в Марокко и Алжир в конце 1831 -в 1832 г., в экзотические страны обогатили палитру Делакруа и вызвали к жизни две его знаменитые картины: «Алжирские женщины в своих покоях» (1834) и «Еврейская свадьба в Марокко» (около 1841). Колористический дар Делакруа проявляется здесь в полную силу. Цветом художник прежде всего создает определенное настроение. Марокканская тема будет еще долго занимать Делакруа.
Он часто вдохновляется в эти годы литературными сюжетами, прежде всего Байроном («Крушение Дон-Жуана«), пишет «Взятие Константинополя крестоносцами» (1840) по Торквато Тассо, возвращается к образам Фауста и Гамлета. Всегда горячо, экспрессивно (учась этому у своего кумира Рубенса) пишет он сцены охот, портреты любимых музыкантов -Паганини (около 1831), Шопена (1838), в поздние годы исполняет несколько декоративных работ (купол библиотеки Люксембургского дворца (1845-1847) и галереи Аполлона в Лувре (1850-1851), капеллы св. ангелов в соборе Сан Сюльпис, 1849-1861), натюрморты, пейзажи. Некоторые марины предваряют находки импрессионистов, недаром именно Делакруа был тем единственным в 60-е годы из признанных художников, кто был готов поддержать это новое поколение. В 1863 г. Делакруа умирает.
Окружение Делакруа - Орас Берне, Арп Шеффер, Эжен Деве-риа, Поль Деларош, по сути, не представляло собой подлинно романтического направления, и уж ни один из этих художников не был равен Делакруа по таланту.
Из скульптурных произведений романтического направления нужно отметить в первую очередь «Марсельезу» Рюда (1784-1855) - рельеф на арке площади Звезды (ныне пл. де Голля) в Париже (арх. Шальгрен), исполненный в 1833-1836 гг. Его тема навеяна настроениями Июльской революции. На рельефе изображены добровольцы 1792 года, увлекаемые вперед аллегорической фигурой Свободы. Ее образ полон необычайной мощи, динамизма, страстности и неукротимости.
В бронзе, текучесть которой легко передает динамику борьбы или нападения, изображаемых в сюжете, работал скульптор-анималист Антуан Бари (1795-1875), искусно передававший пластику диких животных на воле, в естественных условиях существования.
А какие встретите вы дамские рукава
на Невском проспекте!
Н. Гоголь. «Невский проспект».
Тридцатые годы в истории моды знаменуют одно из курьезных, хотя в известной степени женственных изобретений костюмеров. В развитии силуэта эти годы характеризуются гипертрофированным объемом рукавов. Уже в 22–23-м годах рукава получили сборы на окате и стали увеличиваться в объеме, сужаясь книзу. «Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина...». Огромные рукава, поддерживаемые изнутри специальной тарлатановой тканью (рукава назывались жиго – окорок), спускались с плеча, подчеркивая покатость его и хрупкость шеи. Талия, окончательно опустившаяся на свое естественное место, сделалась хрупкой и тонкой, «никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства...» (Н. В. Гоголь. «Невский проспект»).
Всадница. Художник Карл Павлович Брюллов, 1839 год
Если 20-е годы оставляли впечатление спокойствия и сдержанности в костюме, то 30-е годы, наоборот, были воплощением движения, изящества и оптимизма. Если бы моду можно было характеризовать чувствами, которые возникают при взгляде на ее произведения, то 30-е годы были бы веселыми и легкомысленными, а женщины представляли бы «целое море мотыльков...», которое «волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола». Удивительно точно и образно нарисована модная толпа Гоголем в «Невском проспекте»! Недаром самые изящные, достоверные и реалистические модные иллюстрации падают на этот период. Модные картинки Гаварни, печатавшиеся не только в журналах Франции, но и воспроизведенные в русской «Молве», – один из лучших документов костюма 30-х го-дов. Иллюстрации Девериа, русские портреты и многочисленные иллюстративные издания представляют богатейшее собрание костюмированных изображений.
Модные изображения и портретная живопись, как всегда, отличаются друг от друга: в первых много утрированного, как это и подобает модной картинке, а во второй – сдержанность и отражение индивидуального вкуса портретируемого и художника. Мода 1825–1835 годов, представлявшаяся обывателю верхом изысканности, в наше время без всяких коррективов смотрится гротеском. Я умышленно делаю упор на слове «обыватель», ибо прогрессивная мысль Гоголя в достаточной мере высмеяла эту моду в период ее господства.
«Ревизор» и «Мертвые души» так и просятся быть сыгранными в костюмах 30-х годов. Мода на широкие рукава дала возможность разнообразить их фасоны. Над рукавами на склоне плеча укреплялись эпольеры – крылышки, обшитые тесьмой, кружевом, зубчиками, лентами и бантами, концы которых перекрещивались на груди. Тоненькую талию стягивал широкий пояс; в уличных туалетах и рединготах пояса были с овальной металлической пряжкой. Пышные прически, поддерживаемые бантами, дома прикрывались чепцами (чтобы не видны были папильотки), а на улице шляпками с крошечной тульей и большими полями, украшенными страусовыми перьями, цветами и лентами. Нередко женщины надевали длинную вуаль на поля шляпы, спуская ее вперед на лицо и лиф. При сложных бальных прическах и туалетах надевался капюшон с накидкой. Капюшон держался на китовом усе, был твердым и, как футляр, бережно сохранял искусство парикмахера.
Китовым усом подшивались и капоты для выхода в театр и на бал. Эта накидка, стеганная на вате, подбитая лебяжьим пухом и крытая атласом, оберегала от холода, не портя сложной формы огромных рукавов. Летом на платья набрасывались кружевные мантильи, обшитые шелковой бахромой; они могли быть сделаны и из тафты. Кроме того, в ходу были мантильоны. «...Они похожи на мантильи и на косынки, делаются из пу де суа (легкого шелка), обшитого кружевом; сзади концы делаются только пятью или шестью пальцами длиннее пояса; на плечах они не так широки, как мантильи; талия гораздо беднее...» («Литературные прибавления к «Русскому инвалиду»).

Портрет Фанни Персиани-Такинарди в роли Амины в опере Беллини «Сомнамбула»
Работа Карла Павловича Брюллова, 1834 год
Воротнички, косынки, галстучки, кружева и банты украшали тоненький лиф своим расположением (от плеча к центру талии), подчеркивая тонкость стана. Руки были заняты ридикюлями, саками (мешочками), без которых не появлялись в театре и на улице (в мешочках приносили с собой конфеты и флаконы с нюхательной солью). В холод руки прятали в муфты из ткани и меха. Поверх платья летом более всего носили рединготы. «Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках...» (Н. В. Гоголь. «Невский проспект»).
Салопы (шубы на меху), накидки, подбитые мехом, и летом плащи – вот далеко не полный перечень выходного платья.
Ноги были обуты в узенькую на плоской подошве обувь, главным образом из плательной ткани – туфельки на завязках вокруг ноги, башмаки со шнуровкой до щиколотки на внешней стороне ноги, теплые башмаки на меху поверх легких бальных туфелек. В каждый период моды часть костюма или его деталь становятся предметом особой заботы и внимания. Театральный художник, занимаясь костюмом, прежде всего уясняет себе, что же главное в данной моде. И если в 30-х годах особым предметом заботы были рукава, они становятся и предметом внимания художника. Рукав-окорок состоит из двух частей или рукавов: нижний – узкий, верхний – широкий двухшовный, как футляр охватывающий узкий рукав. На нижний рукав от плеча и до локтя прикрепляются накрахмаленные рюши или, что сейчас проще, ленты из поролона, которые придадут верхнему рукаву форму шара. Только обязательно нужно помнить, что рукав вшивается ниже линии плеча. Это придает плечам покатую и красивую форму.
То же самое надо сказать и о крое юбки. Юбка кроится из 3 или 5 полотнищ, (с начала века и до 40-х годов). Переднее полотнище – прямое, гладкое, натягивается спереди и слегка присборено только на боках. Боковые швы скашиваются и уходят за спину. Задняя часть юбки делается из четырех симметричных полотнищ с боковыми швами и швом по центру спины. Таким образом скроенная юбка сохраняет форму, выдерживая модный силуэт.
О разнообразии модных материй писал «Московский телеграф». Каждый месяц он помещал большие отчеты о тканях, рисунках на них и модных цветах: «...персидский ситец, узоры и фасоны его в моде! То же можно сказать и про индийскую тафту (фуляр). Тафта покрыта сложными узорами: огурцы с разводами по белому и светло-желтому фону, по голубому и цвету осинового листа... Узоры бывают разводами, розетками и горошком... Так же нет ни одной щеголихи, у которой не было бы платья из персидского ситца или хотя бы кисейного или другой ткани, только с персидским узором. Из кисеи делают шляпки и платья более или менее нарядные; из персидского ситца утренние шлафроки и полунарядные платья».
Тканей, которыми можно пользоваться при создании костюмов, довольно много: тафта гладкая и клетчатая, шотландки хлопчатобумажные. Эти ткани особенно хороши для скромных персонажей; с белыми воротниками и накидками они будут правдоподобны. Подойдут ситцы, сатины, штапель и шелк с восточными рисунками, полоской и горохом. Очень хорошо держат форму бязь и сатин, поставленные на нижнюю юбку, репс, хлопчатобумажный бархат, вельвет, парча. Ткани с ярко выраженным орнаментом всегда непригодны за их узнаваемость и точный временной адрес. Любой современный классический рисунок ткани очень легко применить ко времени спектакля, слегка протрафаретив орнамент или пропульверизировав костюм. Без такой обработки неприятно выглядит броская современная ткань, примелькавшаяся в жизни и помещенная в прошлое волей художника. Увиденная в театре или на экране, она немедленно разрушает образный строй произведения и эффект сопричастия, возвращает зрителя в реальность дня, раскрывая технологию производства зрелища. Таким грустным примером может служить костюм Анны Карениной – актрисы Самойловой в одноименном цветном фильме в сцене скачек, исполненный из стандартной, набившей оскомину клетки (тафты). В первый же момент появления на экране он разрушает все очарование «элегантной Анны» и трагизм сцены.
30-е годы 19 века – особенный период в развитии русской литературной критики. Это время расцвета так называемой «журнальной критики», эпоха, когда критика как никогда ранее плотно переплелась с литературой. Именно в эти годы активизировалась общественно-политическая жизнь, а в сугубо дворянскую литературу стали проникать произведения либерально и демократически настроенных писателей низших сословий.
В литературе, несмотря на зарождающийся реализм ( , ) , продолжал удерживать твердые позиции Но он уже не представляет собой единое монолитное течение, а разделяется на множество течений и жанров.
Продолжают творить декабристы-романтики А. Бестужев, А. Одоевский, В. Кюхельбекер, поэты пушкинского круга (Е. Баратынский, П. Вяземский, Д. Давыдов). М. Загоскин, И. Лажечников, Н. Полевой выступают с блестящими историческими романами, имеющими ярко выраженные романтические черты. Такую же романтическую направленность сохраняют исторические трагедии Н. Кукольника («Торквато Тассо», «Джакобо Санназар», «Рука Всевышнего отечество спасла», «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» и др.), получившие высокую оценку самого императора Николая I. В 1830-е годы расцветает талант , навсегда вошедшего в русскую литературу как одного из самых «неистовых романтиков» 19-го века. Все это требовало своего осмысления на страницах критических изданий.
«Журнальная критика» как отражение борьбы идей
Эпоху 30-х годов 19 века также иногда называют эпохой борьбы идей. Действительно, восстание декабристов в 1825 году, борьба «западников» и «славянофилов» на страницах литературных альманахов и журналов заставили общество по-новому взглянуть на традиционные проблемы, подняли вопросы национального самоопределения и дальнейшего развития российского государства.
Обложка журнала «Северная пчела»
Декабристские журналы – «Полярная звезда», «Мнемозина» и ряд других – по понятным причинам прекратили свое существование. Прежде достаточно либеральный «Сын Отечества» Н. Греча сблизился с официозной «Северной пчелой»
Сделал крен в сторону консерватизма под редакторством М.Каченовского и авторитетный журнал «Вестник Европы», основанный Н. Карамзиным.
Обложка журнала «Вестник Европы»
Основная цель журнала была просветительская. Он состоял из 4 крупных разделов:
- науки и искусства,
- словесность,
- библиография и критика,
- известия и смесь.
Каждый раздел давал читателям массу разнообразнейших сведений. Критика занимала принципиальное значение.
Историю издания «Московского телеграфа» принято разделять на 2 периода:
- 1825-1829 годы – сотрудничество с дворянскими писателями-либералами П. Вяземским, А. Тургеневым, А. Пушкиным и др.;
- 1829-1834 годы (после публикации карамзинской «Истории государства Российского) – выступления против «засилия» дворян в культурной и общественной жизни России.
Если в первый период «Московский телеграф» выражал концепции исключительно , то в 40-е годы в творчестве Ксенофонта Полевого проявились зачатки .
Критическая деятельность Николая Полевого
Н. Полевой в отзыве-рецензии на 1 главу «Евгения Онегина» (1825), на книгу А. Галича «Опыт науки изящного» (1826) отстаивает идею творческой свободы поэта-романтика, его право на субъективность творчества. Он критикует взгляды и пропагандирует эстетические воззрения идеалистов (Шеллинга, братьев Шлегелей и др.).
В статье «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» (1832) Н. Полевой трактовал романтизм как радикальное, «антидворянское» направление в искусстве, противопоставленное классицизму. Классицизмом он называл античную литературу и подражания ей. Романтизм для него – современная литература, идущая корнями от народности, т.е. верного отражения «души народа» (самых высоких и чистых устремлений народа), и «истины изображения», т.е. яркого и подробного изображения страстей человека. Николай Полевой провозгласил концепцию гения как «идеального существа».
Подлинный художник – это тот, в чьем сердце горит «небесный огонь», кто творит «по вдохновению, свободно и бессознательно».
В этих и последующих статьях нашли свое отражение основные методы критического подхода Н. Полевого – историзм и стремление к созданию всеобъемлющих концепций.
Например, в статье «Баллады и повести » (1832), отзывах на творчество Г. Державина и А. Пушкина критик дает подробный исторический анализ творчества поэтов, рассматривает их произведения в связи с фактами их биографий и потрясениями общественной жизни. Основным критерием творчества поэтов становится соответствие их произведений «духу времени». Цикл этих статей, опубликованных в «Московском телеграфе», стал первым опытом построения единой концепции развития отечественной литературы в русской критике.
Закрытие «Московского телеграфа»
Однако следование принципу историзма в итоге послужило причиной закрытия журнала. В 1834 году Н. Полевой выступил с рецензией на драму Н. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла».
Будучи последовательным в своих суждениях, критик пришел к выводу, что в драме
«нисколько и ничего нет исторического - ни в событиях, ни в характерах <…> Драма в сущности своей не выдерживает никакой критики».
Его мнение не совпало с восторженным откликом на пьесу императора Николая I. В итоге публикация рецензии послужила официальным поводом для закрытия журнала.
Потрясенный закрытием «Московского телеграфа», Н. Полевой сменил место жительства с Москвы на Петербург и примкнул к реакционной критике в лице Греча и Булгарина. До конца критической карьеры Полевой остался верен принципал романтизма. Поэтому появление произведений в стиле гоголевской «натуральной школы» вызвало в нем их ярое неприятие.
Критическая деятельность Ксенофонта Полевого

В 1831-1834 годах Ксенофонт Полевой, младший брат Николая Полевого, фактически взял в свои руки руководство журналом. Он пишет статьи о творчестве Грибоедова, лирике Пушкина и поэтов пушкинского круга, исторических трагедиях (в частности, трагедии А. Хомякова «Ермак»), повестях М. Погодина и А. Бестужева, романтических романах В. Скотта и его подражателей.
В статье «О русских романах и повестях» (1829) критик говорит о крене русской литературы в сторону прозы. Он связывает это с растущей популярностью романов В. Скотта и других западных романтиков. В то же время Ксенофонт Полевой выступал против «экзотичности» в повестях и романах, призывая описывать «острую современность». Под его критическое перо попадали Пушкин с его сказками и Жуковский с романтическими балладами.
Но главная заслуга Ксенофонта Полевого в том, что в своих выступлениях, размышляя о различиях между литературными «партиями», он ввел понятие « литературного направления». Литературным направлением Полевой именовал то «внутреннее стремление литературы», которое позволяет объединять несколько произведений по какому-либо ведущему признаку. Критик отмечал, что журнал не может быть выразителем идей различных авторов –
Вам понравилось? Не скрывайте от мира свою радость - поделитесьон «должен быть выражением одного известного рода мнений в литературе» («О направлениях и партиях в литературе», 1833).
С середины 20-х годов особое значение приобрела идеологизация всех направлений культурного развития. Усилился авторитарно-бюрократический стиль руководства наукой, литературой, искусством. Были созданы органы отраслевого управления культурой - Союзкино (1930), Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию (1933), Всесоюзный комитет по делам высшей школы (1936), Всесоюзный комитет по делам искусства (1936) и др.
В 1928 г. был объявлен всесоюзный культпоход за грамотностью (численность культармии составляла около 1млн. человек). Учителя-добровольцы бесплатно обучили грамоте более 34 млн. человек. С 1930 г. в стране вводилось всеобщее обязательное начальное образование В 1939 г. была поставлена задача перехода ко всеобщему среднему образованию (десятилетке).С 1938 г. во всех национальных школах было введено обязательное изучение русского языка, а с 1940 г. - преподавание иностранных языков в средних школах.
Наука
В 1927 г. для этого была создана Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству . К 1933 г. Академия была подчинена Совнаркому, значительно изменился ее состав, оказались репрессированы ряд ее членов - видных ученых.
Естественные и технические науки Действовали научные школы академиков С.В. Лебедева (производство синтетического каучука), И.М. Губкина (геологическая разведка нефти). Значительными были научные разработки В.И. Вернадского , физиолога И.П. Павлова ; физиков А.Ф. Иоффе и Д.С. Рождественского , математиков Н.Н. Лузина и А.Н. Колмогорова , биологов И.В. Мичурина и Н.И. Вавилова , исследования Арктики О.Ю. Шмидта . Велись исследования в области ядерной физики. В 1933 г. был создан Реактивный научно-исследовательский институт (в 1936 г. пущен самый крупный в Европе циклотрон). В 1928 г. возникла Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), которую возглавлял Н.И. Вавилов .
Закрыты науки - молекулярная биология, кибернетика, гелиобиология, генетика
Гуманитарные науки должны были освобождаться от буржуазной идеологии. Единственно правильной идеологией провозглашался марксизм-ленинизм.
Централизация и бюрократизация партийно-государственного управления художественной культурой. Советские литератураи искусствобыли подчиненызадачам социалистического строительства в СССР.В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. "О перестройке литературно-художественных организаций " все существовавшие прежде литературные объединения (Пролеткульт, РАПП и др.) ликвидировались, творческая интеллигенция объединялась в Союзы советских архитекторов, композиторов (1932), писателей, художников (1934).
Литература. Созданный в 1934 г. Союз советских писателей стал органом проведения политики партии в литературе. Формально он возглавлялся М. Горьким, но практическую работу вело правление во главе с первым секретарем А.С. Щербаковым, кадровым партийным работником.
Большинство произведений писателей различного ранга были посвящены революции, Гражданской войне или социалистическому строительству . Обращение к этим темам привело к созданию ряда значительных произведений, в частности, вернувшегося в 1928 г. из эмиграции М. Горького , М. Шолохова (Тихий Дон), Н. Островского (Как закалялась сталь) и др. Проблемы производства с различной степенью таланта раскрывали М. Шагинян, В. Катаев, Ф. Гладков.
Развитие международной ситуации, приближение новой войны, стремление Сталина поставить советскую государственность на исторический фундамент, тезис о необходимости формирования социалистического патриотизма привели во второй половине 30-х гг. к повышению значения исторического романа , в котором работали - А.Н. Толстой (Петр Первый), М.А. Булгаков (Кабала святош), Ю. Тынянов (Смерть Вазир-Мухтара), В. Шишков (Емельян Пугачев), В. Ян (Чингиз-хан).
Выдающиеся литераторы того времени М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров работали вжанресатиры ; С. Маршак, А. Гайдар, К. Чуковский, С. Михалков создавали произведения для детей. При этом даже в условиях всеобщей идеологизации ряд писателей и особенно поэтов находились вне революционного пафоса и производственного энтузиазма. Это были прежде всего М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам, Б. Пастернак и др.
4.4. Живопись и скульптура. В изобразительном искусстве также происходил процесс объединения и унификации под партийным контролем.В 1934 г. был создан Союз советских художников. В живописи в годы первых пятилетокглавной оставалась революционная тематика: К.С. Петров-Водкин Смерть комиссара, А. Дейнека Оборона Петрограда, Б. Иогансон Допрос коммуниста и др. В этих работах, так же как в произведениях И. Грабаря, И. Грекова, П. Корина пафос эпохи, историко-патриотические мотивы реализовались в высокохудожественной форме.
В 1932 г. прошла последняя выставка художников-авангардистов во главе с Малевичем и Филоновым, в дальнейшем их работы надолго исчезли из экспозиций музеев.В скульптуре актуален монументализм - В.Мухина Рабочий и колхозница
Архитектура и градостроительство . В 1932 г. возник Союз советских архитекторов. Братья Веснины (Дворец культуры ЗИЛа, Днепрогэс), К.С. Мельников и др. продолжали развивать идеи конструктивизма и функционализма. В 1929-1930 гг. строительство здания Мавзолея (архитектор А.Щусев), купол Московского планетария (1928 г., высота пролета 28 м). Дом Совета Министров СССР, гостиница Москва, канал Москва-Волга, сооружалось московское метро (первая очередь пущена в 1935 г.).
Музыка . В 1932 г. был основан Союз советских композиторов . В эти годы советскими композиторами были созданы произведения разных жанров - опера Тихий Дон И. Дзержинского , балеты Пламя Парижа и Бахчисарайский фонтан Б. Астафьева , балет Ромео и Джульетта и кантата Александр Невский С. Прокофьева . В эти годы работали композиторы А. Хачатурян, Д. Шостакович . Среди авторов массовой песни, оперетты и киномузыки - В.Лебедев-Кумач, Т. Хренников, И. Дунаевский и др.
Театр В театре также происходило утверждение принципов социалистического реализма. В соответствии с ними советская драматургия представляла спектакли о революционных событиях, о жизни и буднях советского человека (пьесы Вс. Вишневского Оптимистическая трагедия; А. Корнейчука Платон Кречет; Н. Погодина Человек с ружьем и др.). Редкостью были такие постановки как Дни Турбиных по пьесе М.А. Булгакова . Однако сохранялся и развивался классический репертуар. Произведения А.Н. Островского, А.П. Чехова, В. Шекспира широко ставились в московском Малом театре, МХАТе и др.
В театре работали актеры старшего поколения (И. Москвин, А. Яблочкина, В. Качалов, О. Книппер-Чехова ), а также нового, сформировавшегося в послеоктябрьский период (В. Щукин, А. Тарасова, Н. Мордвинов и др.).
Кинематограф . В 30-е гг. в кинематографе произошли значительные изменения, к числу которых относится появление звукового кино. Режиссеры С. Юткевича (Встречный), С. Герасимова (Семеро смелых, Комсомольск), братьев Васильевых (Чапаев), И. Хейфица и Л. Зархи Депутат Балтики). Г.Александрова (Волга-Волга, Цирк, Веселые ребята) ; исторические фильмы С. Эйзенштейна (Александр Невский), В. Петрова (Петр Первый), В. Пудовкина и М. Доллера (Суворов), а также фильмы Г. Козинцева и др.
5.1. Борьба против формализма в искусстве. Идеи классового искусства привели к борьбе против так называемого формализма в творчестве некоторых литераторов, художников, композиторов. Формализмом объявлялось все то, что не укладывалось в узкие рамки соцреализма. Борьба свелась к травле деятелей культуры и искусства, в ходе которой пострадали Д. Шостакович (за оперу Леди Макбет Мценского уезда и балет Светлый ручей), кинорежиссеры С. Эйзенштейн и А. Довженко , литераторы Б. Пастернак, Н. Заболоцкий, Ю. Олеша, Н. Асеев, И. Бабель , академик О.Ю. Шмидт , художники А. Дейнека, В. Фаворский, А. Лентулов . За формализм и натурализм было осуждено творчество В. Мейерхольда (в 1938 г. был закрыт его театр, а режиссер репрессирован) и А. Таирова .
Передовая русская литература 10-30-х годов XIX века
Передовая русская литература 10--30-х годов XIX века развивалась в борьбе с крепостничеством и самодержавием, продолжая освободительные традиции великого Радищева.
Время декабристов и Пушкина составило один из существенных этапов той длительной борьбы против крепостничества и самодержавия, которая с наибольшей остротой и в новом качестве развернулась позже, в эпоху революционных демократов.
Возросшая в начале XIX века борьба против самодержавно-крепостнической системы была обусловлена новыми явлениями в материальной жизни русского общества. Усиление процесса разложения феодальных отношений, все большее проникновение капиталистических тенденций в экономику, рост эксплуатации крестьянства, дальнейшее его обнищание, -- все это обостряло социальные противоречия, способствовало развитию классовой борьбы, росту освободительного движения в стране. Для передовых людей России становилось все более очевидным, что существовавший общественно-экономический строй является препятствием для прогресса страны во всех областях хозяйственной жизни и культуры.
Деятельность представителей дворянского периода освободительного движения оказалась направленной, в той или иной степени, против основы феодализма -- феодальной собственности на землю и против политических учреждений, соответствовавших интересам помещиков-крепостников, защищавших их интересы. Хотя декабристы, по определению В. И. Ленина, были еще «страшно далеки... от народа»,1 но при всем том их движение лучшими своими сторонами отражало надежды народа на освобождение от векового рабства.
Величие, сила, одаренность, неисчерпаемые возможности русского народа с особенной яркостью обнаружились в период Отечественной войны 1812 года. Народный патриотизм, выросший в Отечественной войне, сыграл огромную роль в развитии декабристского движения.
В лице декабристов выступило первое поколение русских революционеров, которых В. И. Ленин называл «революционерами-дворянами» или «дворянскими революционерами». «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма», -- говорил В. И. Ленин в «Докладе о революции 1905 года».2
В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин привел характеристику движения декабристов, данную Герценом: «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество „пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников“, да прекраснодушных Маниловых. „И между ними -- писал Герцен -- развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия“».1 В. И. Ленин подчеркивал революционное значение декабристского движения и его роль для дальнейшего развития передовой общественной мысли в России и с уважением говорил о республиканских идеях декабристов.
В.И. Ленин учил, что в условиях, когда господствуют эксплуататорские классы, «есть две национальные культуры в каждой национальной культуре».2 Разложение феодально-крепостнического уклада сопровождалось бурным развитием передовой русской национальной культуры. В первые десятилетия XIX века это была культура, направленная против «культуры» реакционного дворянства, культура декабристов и Пушкина, -- та культура, за которую боролись и которую в дальнейшем двигали вперед Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов, представители качественно нового, революционно-демократического этапа русского освободительного движения.
В годы войны с Наполеоном русский народ не только отстоял свою независимость, разгромив непобедимые до того полчища Наполеона, но освободил и другие народы Европы от наполеоновского ига. Победа России над Наполеоном, явившись событием всемирно-исторического значения, стала новой и важной ступенью в развитии национального самосознания. «Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию, -- ее пробудили славные опасности 1812 года», -- утверждал Чернышевский.3 Исключительное значение 1812 года в исторической жизни России неоднократно подчеркивал и Белинский.
«Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России, -- писал Белинский. -- Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно оказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил..., возбудил народное сознание и народную гордость, и всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине... Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества».4
С развитием революционного движения декабристов, с появлением Пушкина русская литература вступила в новый период своей истории, который Белинский справедливо назвал пушкинским периодом. На новую, высокую ступень были подняты свойственные предшествовавшей передовой русской литературе патриотические и освободительные идеи.
Лучшие русские писатели «вслед Радищеву» воспевали свободу, патриотическую преданность родине и народу, гневно обличали деспотизм самодержавия, смело вскрывали сущность крепостнического строя и ратовали за его уничтожение. Подвергая резкой критике существовавшие социальные порядки, передовая русская литература вместе с тем создавала образы положительных героев, страстных патриотов, воодушевленных стремлением посвятить свою жизнь делу освобождения родины от цепей абсолютизма и крепостничества. Враждебность всей существовавшей тогда системе, пламенный патриотизм, разоблачение космополитизма и национализма реакционного дворянства, призыв к решительной ломке феодально-крепостнических отношений составляет пафос творчества поэтов-декабристов, Грибоедова, Пушкина и всех прогрессивных писателей этого времени.
Мощный подъем национального самосознания, вызванный 1812 годом и развитием освободительного движения, явился стимулом дальнейшей демократизации литературы. Наряду с образами лучших людей из дворян, в художественной литературе стали все чаще появляться образы людей из социальных низов, воплощавшие замечательные черты русского национального характера. Вершиной этого процесса является создание Пушкиным в 30-х годах образа вождя крестьянского восстания Емельяна Пугачева. Пушкин, хотя и не свободный от предубеждения против «беспощадных» методов крестьянской расправы с помещиками, тем не менее, следуя жизненной правде, воплотил в образе Пугачева обаятельные черты умного, бесстрашного, преданного народу вождя крестьянского восстания.
Самый процесс утверждения реализма в русской литературе 20--30-х годов был весьма сложным и протекал в борьбе, принимавшей острые формы.
Начало пушкинского периода было ознаменовано возникновением и развитием в литературе прогрессивного романтизма, вдохновителями которого стали поэты и писатели декабристского круга и который возглавил Пушкин. «Романтизм -- вот первое слово, огласившее Пушкинский период», -- писал Белинский (I, 383), связывая с понятием романтизма борьбу за самобытность и народность литературы, пафос свободолюбия и общественного протеста. Прогрессивный русский романтизм был порожден требованиями самой жизни, отражал борьбу нового со старым и поэтому явился своеобразным переходным этапом на пути к реализму (в то время как романтики реакционного направления были враждебны всяким реалистическим тенденциям и выступали в защиту феодально-крепостнических порядков).
Пушкин, возглавив направление прогрессивного романтизма и пережив романтический этап в своем творчестве, воплотив самые сильные стороны этого романтизма, необычайно быстро преодолел его слабые стороны -- известную отвлеченность образов, недостаточность анализа противоречий жизни -- и обратился к реализму, основоположником которого он и стал. Внутренним содержанием пушкинского периода русской литературы являлся процесс подготовки и утверждения художественного реализма, выраставшего на основе общественно-политической борьбы передовых сил русского общества накануне восстания 14 декабря 1825 года и в последекабрьские годы. Именно Пушкину принадлежит историческая заслуга всесторонней разработки и воплощения в художественном творчестве принципом реалистического метода, принципов изображения типических характеров в типических обстоятельствах. Принципы реализма, заложенные в творчестве Пушкина, были развиты его великими преемниками -- Гоголем и Лермонтовым, а затем подняты на еще более высокую ступень революционными демократами и укреплены в борьбе со всякого рода реакционными направлениями целой плеядой передовых русских писателей. В творчестве Пушкина воплощены основы мирового значения русской литературы, возраставшего с каждым новым этапом ее развития.
В этот же период Пушкин совершил свой великий подвиг, преобразовав русский литературный язык, усовершенствовав на основе общенародного языка ту структуру русского языка, которая, по определению И. В. Сталина, «сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка».1
В своем творчестве Пушкин отразил гордое и радостное сознание моральной силы русского народа, продемонстрировавшего всему миру свое величие и исполинскую мощь.
Но народ, низвергнувший «тяготеющий над царствами кумир» и надеявшийся на освобождение от феодального гнета, после победоносной войны попрежнему остался в крепостной неволе. В манифесте 30 августа года, даровавшем, в связи с окончанием войны, различные «милости», о крестьянах было сказано только следующее: «Крестьяне, верный наш народ -- да получит мзду свою от бога». Народ был обманут самодержавием. Разгром Наполеона завершился торжеством реакции, определившей всю международную и внутреннюю политику российского царизма. Осенью 1815 года монархи России, Пруссии и Австрии образовали так называемый Священный союз для борьбы с национально-освободительными и революционными движениями в странах Европы. На конгрессах Священного союза, которые Маркс и Энгельс называли «бандитскими»,2 изыскивались и обсуждались меры борьбы с развитием революционных идей и национально-освободительными движениями.
1820 год -- год высылки Пушкина из Петербурга -- особенно богат был революционными событиями. Эти события развернулись в Испании, Италии и Португалии; в Париже был раскрыт военный заговор; в Петербурге вспыхнуло вооруженное восстание Семеновского полка, сопровождавшееся серьезными волнениями во всей царской гвардии. Революционное движение перекинулось и в Грецию, на Балканский полуостров, в Молдавию и Валахию. Руководящая роль, которую играл в реакционной политике Священного союза Александр I вместе с австрийским канцлером Меттернихом, сделала имя русского царя синонимом европейской реакции. Декабрист М. Фонвизин писал: «Александр стал во главе монархических реакционеров... По низложении Наполеона главным предметом всех политических действий императора Александра было подавление возникшего повсюду духа свободы и укрепление монархических начал...».3 Революции в Испании и Португалии были подавлены. Неудачей кончилась попытка восстания во Франции.
Внутренняя политика Александра I за последние десять лет его царствования отмечена жесточайшей борьбой со всеми проявлениями оппозиционных настроений в стране и передовым общественным мнением. Все упорнее становились крестьянские волнения, длившиеся иногда по нескольку лет и усмирявшиеся военной силой. За годы с 1813 по 1825 имели место не менее 540 крестьянских волнений, тогда как за 1801--1812 годы их известно лишь 165. Наиболее крупные массовые волнения произошли на Дону в 1818--1820 годах. «Когда было крепостное право, -- пишет В. И. Ленин, -- вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли».1
С настроениями крепостных крестьян, боровшихся с помещиками, были связаны и волнения, происходившие в отдельных армейских частях. Солдатская служба продолжалась в то время 25 лет, причем за малейший проступок солдат обрекался на бессрочную пожизненную службу. Жестокие телесные наказания свирепствовали тогда в армии. Самым крупным из армейских волнений явилось возмущение лейб-гвардии Семеновского полка в Петербурге, отличавшееся особой сплоченностью и стойкостью. В петербургских казармах были найдены революционные прокламации, призывавшие на борьбу с царем и дворянами, объявлявшие, что царь «не кто иной, как сильный разбойник». Возмущение семеновцев было подавлено, полк был расформирован и заменен новым составом, а «зачинщики» возмущения были подвергнуты жесточайшему наказанию -- прогнаны сквозь строй.
«...Монархи, -- пишет В. И. Ленин, -- то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и „спускали“ на верноподданных Аракчеевых...».2 В период существования Священного союза в заигрывании с либерализмом не было нужды и на верноподданных был «спущен» грубый и невежественный царский сатрап Аракчеев, организатор и главный начальник военных поселений, особой формы комплектования и содержания армии.
Введение военных поселений явилось новой мерой крепостного угнетения и было встречено волнениями крестьян. Однако Александр I заявил, что «военные поселения будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова».
Реакция свирепствовала и в области просвещения, причем борьба с революционными идеями, распространявшимися в стране, велась посредством расширения религиозно-мистической пропаганды. Во главе министерства народного просвещения был поставлен обер-прокурор святейшего синода реакционер князь А. Голицын -- «холопская душа» и «просвещения губитель», как характеризует его пушкинская эпиграмма. С помощью своих чиновников Магницкого и Рунича Голицын под видом «ревизии» предпринял поход на университеты. Многие профессора, внушавшие реакционерам подозрение, были удалены из высшей школы. Придирчивость цензуры дошла в то время до крайних пределов. В печати были запрещены всякие рассуждения о системах политического строя. Страна покрылась разветвленной сетью тайной полиции.
Декабрист А. Бестужев в письме из Петропавловской крепости Николаю I, вспоминая последние годы царствования Александра I, отмечал: «Солдаты роптали на истому ученьями, чисткою, караулами; офицеры на скудость жалованья и непомерную строгость. Матросы на черную работу, удвоенную по злоупотреблению, морские офицеры на бездействие. Люди с дарованиями жаловались, что им заграждают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности; ученые на то, что им не дают учить, молодежь на препятствия в ученьи. Словом, во всех углах виделись недовольные лица; на улицах пожимали плечами, везде шептались -- все говорили, к чему это приведет?».1 Царское правительство, по характеристике того же А. Бестужева, «беззаботно дремало над волканом».
Годы торжества Священного союза и аракчеевщины были в то же время годами подъема революционных настроений среди передового дворянства. В эти годы организуются тайные общества будущих декабристов: Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества (1816--1817), Союз благоденствия (1818--1821), Южное общество (1821--1825) во главе с Пестелем и С. Муравьевым-Апостолом, Северное общество (1821--1825), наконец, Общество соединенных славян (1823--1825), -- таковы важнейшие объединения будущих декабристов. Несмотря на все многообразие политических программ, пламенная любовь к родине и борьба за свободу человека являлись теми основными началами, которые объединяли всех декабристов. «Рабство огромного, бесправного большинства русских, -- писал декабрист М. Фонвизин, -- жестокое обращение начальников с подчиненными, всякого рода злоупотребления власти, повсюду царствующий произвол, -- все это возмущало и приводило в негодование образованных русских и их патриотическое чувство».2 М. Фонвизин подчеркивал, что возвышенная любовь к отечеству, чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной, воодушевляли декабристов в их борьбе.
Вся передовая русская литература первой трети XIX века развивалась под знаком борьбы с самодержавием и крепостничеством. С революционным движением декабристов органически связано творчество Пушкина и Грибоедова. Из среды самих декабристов вышли поэты В. Ф. Раевский, Рылеев, Кюхельбекер. В орбиту декабристского идейного влияния и воздействия оказались вовлеченными также многие другие поэты и писатели.
Согласно ленинской периодизации исторического процесса, в истории русского революционного движения было три периода: «... 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время».3 Декабристы и Герцен являлись главными представителями первого периода. В. И. Ленин писал: «... мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала -- дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию».4
14 декабря 1825 года явилось рубежом в социально-политической и культурной жизни России. После разгрома декабрьского восстания в стране началась полоса все возраставшей реакции. «Первые годы, следовавшие за 1825-м, были ужасающие, -- писал Герцен. -- Потребовалось не менее десятка лет, чтобы в этой злосчастной атмосфере порабощения и преследований можно было притти в себя. Людьми овладела глубокая безнадежность, общий упадок сил... Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в отдаленное будущее».1
В 1826 году Николай I создал особый корпус жандармов и учредил III Отделение «собственной его величества канцелярии». III Отделение обязано было преследовать «государственных преступников», ему поручались «все распоряжения и известия по делам высшей полиции». Шефом жандармов и начальником III Отделения был поставлен балтийский немец граф А. Х. Бенкендорф, невежественный и бездарный солдафон, пользовавшийся безграничным доверием Николая I. Бенкендорф стал душителем всякой живой мысли, всякого живого начинания.
«На поверхности официальной России, „фасадной империи“, видны были только потери, свирепая реакция, бесчеловечные преследования, усугубление деспотизма. Виден был Николай, окруженный посредственностями, солдатами парадов, балтийскими немцами и дикими консерваторами, -- сам недоверчивый, холодный, упрямый, безжалостный, с душою, недоступной высоким порывам, и посредственный, как и его окружение».2
В 1826 году был введен новый цензурный устав, получивший название «чугунного». Этот устав был направлен против «вольнодумных» сочинений, «наполненных бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времен».3 Двести тридцать параграфов нового устава открывали самый широкий простор казуистике. По этому уставу, обязывавшему отыскивать двоякий смысл в произведении, можно было, как говорил один современник, и «Отче наш» перетолковать якобинским наречием.
В 1828 году был утвержден новый цензурный устав, несколько более мягкий. Однако и этот устав предусматривал полное запрещение всяких суждений о государственном устройстве и правительственной политике. Согласно этому уставу беллетристику рекомендовалось цензуровать с сугубой строгостью в отношении «нравственности». Устав 1828 года положил начало исключительно тяжкой для печати множественности цензуры. Разрешение к печати книг и статей ставилось в зависимость от согласия тех ведомств, к которым эти книги и статьи могли относиться по содержанию. После революционных событий во Франции и польского восстания наступила пора настоящего цензурно-полицейского террора.
В июле 1830 года произошла буржуазная революция во Франции, а через месяц революционные события распространились на территорию Нидерландского королевства и итальянских государств. Николай I создавал планы военной интервенции для подавления революции в Западной Европе, однако его замыслы были сорваны восстанием в Царстве Польском.
Время польского восстания ознаменовалось сильным подъемом массового движения в России. Вспыхнули так называемые «холерные бунты». В Старой Руссе Новгородской губернии восстало 12 полков военных поселян. Крепостное право продолжало лежать тяжким бременем на народных массах России и служило главным тормозом для развития капиталистических отношений. В первое десятилетие царствования Николая I, с 1826 по 1834 год, произошло 145 крестьянских волнений, в среднем -- 16 в год. В последующие годы крестьянское движение все нарастало, несмотря на жестокие преследования.
Для поддержания «спокойствия» и «порядка» в стране Николай I всемерно усиливал реакционную политику. В конце 1832 года была декларирована теория «официальной народности», определявшая внутреннюю политику николаевского правительства. Автором этой «теории» был С. Уваров, «министр погашения и помрачения просвещения», как его называл Белинский. Сущность теории выражалась в формуле: «православие, самодержавие и народность», причем последний член формулы, наиболее ходовой и популярный, являлся и основным для реакционеров: демагогически извращая смысл слова «народность», они стремились утвердить крепостное право как основную гарантию незыблемости церкви и государства. С. Уваров и другие апологеты «теории» официальной народности отчетливо понимали, что исторические судьбы самодержавного строя предопределяются судьбами крепостного права. «Вопрос о крепостном праве, -- говорил Уваров, -- тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии. -- Это две параллельные силы, кои развивались вместе. У того и у другого одно историческое начало; законность их одинакова. -- Что было у нас прежде Петра I, то все прошло, кроме крепостного права, которое, следовательно, не может быть тронуто без всеобщего потрясения».1 Провозгласив и обосновав лозунг «официальной народности», Уваров через несколько лет заявлял: «Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру спокойно». Уваров проводил свою программу с неукоснительной последовательностью и настойчивостью: все без исключения области государственной и общественной жизни постепенно были подчинены системе строжайшей правительственной опеки. Соответственной регламентации подверглись также наука и литература, журналистика, театр. И. С. Тургенев вспоминал впоследствии, что в 30--40-е годы «правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе все».2
Никогда еще самодержавие не угнетало общество и народ так жестоко, как в николаевское время. И все же преследования и гонения не могли убить свободолюбивую мысль. Революционные традиции декабристов унаследовало, расширило и углубило новое поколение русских революционеров -- революционных демократов. Первым из них явился Белинский, который, по словам В. И. Ленина, был «предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении».3
Белинский вышел на общественную арену за три года до гибели Пушкина, и в эти годы далеко еще не сложилось революционно-демократическое мировоззрение великого критика. В последекабрьскую эпоху Пушкин не видел и еще не мог видеть тех общественных сил, которые могли бы возглавить борьбу с крепостничеством и самодержавием. В этом главный источник тех трудностей и противоречий, в кругу которых суждено было развиваться гению Пушкина в 30-е годы. Однако Пушкин проницательно угадывал новые общественные силы, окончательно созревшие после его гибели. Знаменательно, что в последние годы своей жизни он внимательно присматривался к деятельности молодого Белинского, сочувственно о нем отзывался и совсем незадолго до гибели решил привлечь его к совместной журнальной работе в «Современнике».
Пушкин первый угадал огромное дарование в Гоголе и своим сочувственным отзывом о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» помог молодому писателю поверить в себя, в свое литературное призвание. Пушкин дал Гоголю замысел «Ревизора» и «Мертвых душ». В 1835 году окончательно определилось историческое значение Гоголя: в результате издания двух своих новых книг -- «Арабесок» и «Миргорода» -- Гоголь приобрел славу великого русского писателя, подлинного наследника Пушкина в деле преобразования русской литературы. В том же 1835 году Гоголь создает первые главы начатых по совету Пушкина «Мертвых душ», а через год выходит из печати и ставится на сцене «Ревизор» -- гениальная комедия, явившаяся событием громадного общественного значения. Другим великим наследником Пушкина, продолжившим традиции освободительной борьбы в условиях николаевской реакции, стал Лермонтов, уже создававший при жизни Пушкина свою драму «Маскарад» и образ Печорина в «Княгине Лиговской». Широкая известность Лермонтова в русском обществе началась с его стихотворения «Смерть поэта», где он ответил убийцам Пушкина, заклеймив их с потрясающей силой художественного выражения, со смелостью и прямотой.
Пушкин пал жертвой самодержавно-крепостнического строя, затравленный великосветской придворной челядью; он погиб, как впоследствии писал Герцен, от руки «... одного из тех иностранных драчунов-забияк, которые, как средневековые наемники..., отдают свою шпагу за деньги к услугам всякого деспотизма. Он пал в полном расцвете сил, не окончив своих песен, не досказав того, что имел сказать».1
Гибель Пушкина стала всенародным горем. Несколько десятков тысяч человек пришло поклониться его праху. «Это было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение», -- записал современник.2
После разгрома восстания декабристов одним из очагов передовой, независимой мысли сделался Московский университет. «Все пошло назад, -- вспоминал Герцен, -- кровь бросилась к сердцу; деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел... Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием; в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее... Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах... Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от „воды и огня“...» (XII, 99, 100).
Московский университет стал играть в 30-е годы передовую общественную роль не столько благодаря своим профессорам и преподавателям, сколько благодаря той молодежи, которую он объединял. Идейное развитие университетской молодежи шло преимущественно в студенческих кружках. С участием в кружках, возникавших среди студентов Московского университета, было связано развитие Белинского, Герцена, Огарева, Лермонтова, Гончарова, а также многих других, чьи имена впоследствии вошли в историю русской литературы, науки и общественной мысли. В середине 50-х годов Герцен вспоминал в «Былом и думах», что «тридцать лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства..., а в них было наследие 14 декабря, -- наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси» (XIII, 28).
«Наследие 14 декабря» было развито уже на новом революционно-демократическом этапе общественной мысли, в 40-е годы, когда Белинский и Герцен совместно работали над созданием русской материалистической философии, а Белинский закладывал основы реалистической эстетики и критики в России.
В процессе формирования своих революционно-демократических взглядов, определявшихся ростом освободительного движения в стране и, в связи с этим, непрерывно обострявшейся политической борьбой в русском обществе, Белинский развернул борьбу и за наследие Пушкина. Можно без всяких преувеличений сказать, что национальная и мировая слава Пушкина раскрылась в значительной мере благодаря работе Белинского, благодаря тому, что творчество Пушкина было освещено передовой революционно-демократической теорией. Белинский отстаивал наследие Пушкина от реакционных и ложных истолкований, он вел непримиримую борьбу против всякого рода попыток отнять Пушкина у русского народа, исказить и фальсифицировать его облик. Белинский со всей определенностью заявлял по поводу своих суждений о Пушкине, что он считает эти суждения далеко не окончательными. Белинский показал, что задача определения исторического и «безусловно художественного значения» такого поэта, как Пушкин, «не может быть решена однажды навсегда, на основании чистого разума». «Нет, -- утверждал Белинский, -- решение ее должно быть результатом исторического движения общества» (XI, 189). И отсюда -- изумительное по чувству историзма признание Белинского в неизбежной ограниченности его собственных оценок пушкинского творчества. «Пушкин принадлежит к вечно-живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества, -- писал Белинский. -- Каждая эпоха произносит о них свое суждение и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное...» (VII, 32).
Великая историческая заслуга Белинского состоит в том, что он, осознавая все творчество Пушкина в перспективах развития освободительного движения в стране, раскрыл и утвердил значение Пушкина как основоположника русской передовой национальной литературы, как предвестника будущего совершенного общественного строя, основанного на уважении человека к человеку. Русская литература, начиная с Пушкина, отражала мировое значение русского исторического процесса, неуклонно шедшего к первой в мире победоносной социалистической революции.
В 1902 году в работе «Что делать?» В. И. Ленин подчеркнул, что свое всемирное значение русская литература стала приобретать благодаря тому, что она была руководима передовой теорией. В. И. Ленин писал: «... роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, чтоМ это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература...».1
После Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эру в мировой истории, в полной мере раскрылось всемирно-историческое значение русской литературы и мировое значение Пушкина как ее основоположника. Пушкин обрел новую жизнь в сердцах многомиллионного советского народа и всего прогрессивного человечества.