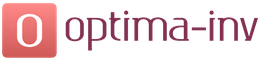Газета Жизнь Православная. Православный портал Мир Вам! Платон, митрополит Феодосийский и Керченский (Удовенко Владимир Петрович)
24 ноября исполнилось 200 лет со дня кончины митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина). Как жили иерархи в эпоху, когда Церковь была полностью зависима от царской власти, и чего им это стоило?
С точки рения современного человека, непросто оценить отношение митрополита Платона, человека XVIII века, к материальным благам. Действительно, будучи наместником, а затем и настоятелем, священно-архимандритом Троице-Сергиевой лавры в сане митрополита Московского, живя, так сказать, «на всем готовом», он ни в чем не нуждался. Однако постоянный достаток, по нашим меркам граничивший почти с роскошью, был следствием отнюдь не личного пристрастия этого выдающегося иерарха к власти или ее пышным атрибутам. Положение при блестящем петербургском дворе как законоучителя наследника престола, придворного проповедника, постоянное присутствие в Св. Синоде, обязывало усваивать нравы и правила игры екатерининского времени, диктуемые обстановкой и кругом необходимых знакомств.
Одеваться в рубище и проповедовать в нем перед высочайшими особами, как и быть вхожим в покои наследника российского престола, или присутствовать на заседаниях Синода, было просто невозможно. Как невозможно было и отказаться, к примеру, от жалованья и стола, назначаемых «сверху». По свидетельству «Записок» митрополита Платона, при назначении на должность законоучителя ему, тогда молодому лаврскому иеромонаху, были «покои нехудые отведены, в бывшем деревянном зимнем дворце, что на Мойке.
Содержания кроме 1000 р. жалованья, положено на стол 500 р., по штофу водки на неделю; по бутылке рейнвейну на день, меду, полпива, кислых щей, дров и свеч неоскудное число, белье столовое и посуда всякая дворцовая; да истопник и работник, а сверх того карета дворцовая с парой лошадей и конюхом»). Что же говорить о дальнейшем его содержании, все более и более увеличивающемся по мере продвижения по иерархической лестнице (почувствованная им самим разница, к примеру, нашла отражение в его личных календарных записях за 1775 г., когда уже в сане архиепископа он был всего лишь переведен с одной кафедры на другую ‒ с Тверской на столичную Московскую).
Следует сказать, что правила этой игры так или иначе были принимаемы всеми иерархами, вынужденными к придворной службе. Так, современник московского владыки, петербургский митрополит Гавриил (Петров), в течении 30 лет (!) ‒ первенствующий член Св. Синода, безусловно, должен был соблюдать (и соблюдал) внешнюю, блестящую, сторону придворной жизни, как, например, присутствие на дворцовых обедах. Однако келейную жизнь вел простую, можно сказать, бедную, питаясь у себя почти одной вареной капустой. Аскет по природе, по необходимости одетый в роскошные рясы, митрополит Гавриил воспринимал придворную жизнь как повод для смирения и сокрытия своего подвига.
Эпоха, в которую жил митрополит Платон, не предполагала чувства вины относительно всевозможных поступавших к нему дарений, поскольку все значительные события государственной жизни России конца XVIII в., как правило, сопровождались наградами и пожалованиями Церкви и духовенству со стороны царствующих особ. И это было не только нормой: отсутствие таких наград почиталось впадением в немилость. Не обойден вниманием был и московский владыка, начинавший получать материальные знаки высочайшего благоволения буквально с первых своих шагов в церковной иерархии, когда, будучи еще иеромонахом и ректором Троицкой семинарии, был пожалован Екатериной II «довольною денежной наградой» за приветственную речь, произнесенную перед ней в ее приезд в Лавру после коронации в 1762 г.
К слову, император Павел I, посетив в 1797 г. после своей коронации Лавру, точно в таком же случае пожаловал ректору Троицкой семинарии Августину (Виноградскому) золотые часы с бриллиантами. И это был всего лишь иеромонах, даже не епископ! (Первый же подарок самому Платону Павел преподнес, будучи еще девятилетним мальчиком и его учеником: это была собранная им со своего стола тарелка с экзотическими фруктами ‒ роскошью, в то время доступной только в императорском дворце и домах знатнейших вельмож.) Многие же из последующих высочайших пожалований и подарков митрополиту Платону являют собой образцы не только высокого, но и чрезвычайно драгоценного ювелирного искуства (все они сохранились, будучи переданы в свое время самим владыкой в ризницы Чудова монастыря и Троице-Сергиевой лавры). 
Панагия митрополита Платона (Левшина). Распятие. Москва или Санкт-Петербург. 1784 г.
Точный учет
Можно сказать, что митрополит Платон жил по принципу «даром получили, даром давайте». Отличаясь завидной и редкой для нашего времени щепетильностью в вопросах своей репутации, он в своих «Записках» не только скрупулезно перечисляет все подарки, пожертвования, пожалования «по мере поступления» их от высочайших особ, но и указывает, как он ими распорядился, особенно если речь идет о проходивших через его руки денежных средствах (которые, в случае их общего подсчета, составили бы немалую сумму: ведь только на постройку Архиерейского дома в Кремле Екатерина II выделила ему 40 тыс. рублей, а император Павла I в связи со своей коронацией дал «на раздачу бедным» 90 тыс. рублей, Александр I - 60 тыс. рублей). 
Солоница (ладоница), подарок Екатерины II митрополиту Платону (Левшину). Москва. Мастер А.И. Ратков. 1787 г.
Убедительную картину чрезвычайной бережливости митрополита Платона и тщательности учета прихода и расхода вверенных его распоряжению денежных средств, касающихся не только самой Лавры, но находившейся в ее стенах Троицкой семинарии дают документы архива Учрежденного собора Лавры. Особую статью составляла часть денежных поступлений, уходившая на помощь вдовам священников, инвалидам, содержание богаделен и другие дела милосердия.
В Лавре до сих пор хранятся вклады ее настоятеля, преосвященного Платона: золотые сионы, богослужебные сосуды, серебряные подсвечники и другие предметы церковного обихода. Все это перечислено в его «Записках», и все это безусловно, стоило немалых и по тем временам денег. Очевидно, митрополит Платон, обладавший при своем простом происхождении хорошим природным вкусом, настолько развил его, соприкасаясь с придворной жизнью, что, например, сделанные по его заказу (а часто и по его эскизам) известные нам панагии, представляют собой достойные образцы весьма высокого искусства.
Хотя Троице-Сергиева лавра занимала привилегированное положение по сумме, выделявшейся на ее содержание из Коллегии экономии, однако и этой суммы не хватало на все нужды обители после секуляризации 1764 г. Екатерина II во время посещения Лавры в 1775 г., усмотрев плачевное состояние ее храмов, распорядилась выделить из казны 30 тыс. рублей на приведение их в порядок. Ремонтные работы, развернутые митр. Платоном на эти деньги, стали первой широкомасштабной реставрацией в истории древнего монастыря, вошедшей в нее как «платновская». В течение нескольких лет были капитально поновлены все храмы Лавры, в том числе и древнейший Троицкий собор: поправлены росписи, иконостасы, обновлены кровли, покрашены фасады, осуществлены другие необходимые перестройки и переделки.
Получая от власти достаточно средств без своей просьбы, митрополит Платон не гнушался обращаться к ней за деньгами, если речь шла о вверенных его попечению церковных заведениях - будь то Троицкая, Тверская или Перервинская семинарии, Московская Духовная академия, архиерейские дома, подворья или сама Лавра. И ‒ что удивительно для нашего времени - всегда получал просимое. Суммарный же вклад вытребованных им у власти в результате личных усилий материальных средств, затраченных на благоустроение Лавры, возрождение запустевших и устройство новых обителей (в частности, Перервинский монастырь в первом случае и Вифанский во втором), ремонт храмов своей епархии, вполне сопоставим с добровольными царскими пожалованиями, если только не превышает их.
Две жизни
Почитание власти, особенно монаршей, беспрецедентно сакрализованной в XVIII в., было неотъемлемой чертой личности митрополита Платона. Это почитание сквозит, точнее, этим почитанием буквально дышит все проповедническое наследие знаменитого витии. (К примеру он мог, совершенно в духе своего времени, приветствуя императрицу речью, провести параллель со с евангельскими словами: «Откуду ми сие, да прииде Мати Господа Моего ко мне».) Это же почитание побуждало его «гнать» из Москвы в Лавру при известии о предстоящем высочайшем посещении обители, чтобы самому руководить подготовкой «гратуляции», написанием од, составлением богословских «диспутов». Молодые люди - семинаристы - одевались по его указу в белые хитоны с зелеными лентами поверх обычных платьев, выстраивались в шеренги по обе стороны аллеи, по которой проезжали высокие гости, пели канты. Хлебосольный хозяин обители, принимая их, служил в их присутствии всенощную и Литургию, произносил речи, угощал в своих покоях, в конце концов провожал, получив очередные пожалования на обитель и семинарию.
Однако такое отношение удивительным образом сочеталось в личности московского владыки с детской бескомпромиссностью, когда речь заходила об ущемлении властью интересов Церкви. Именно это свойство, как и полное отсутствие способности лицемерить в этом случае, лежало в основе его непреодолимого и в конце-концов осуществленного желания навсегда оставить все свои придворные должности и искать покой в любезной его сердце Лавре, а позднее - в устроенной по своему вкусу Вифании.
Московский архитектор Одоевцев выстроил для митрополита Платона в Вифанской пустыни, устроенной в 1783 г. «для погребения усопшей о Господе братии Сергиевы лавры», архиерейские покои. Их обстановка сохранялась и после кончины иерарха: еще до революции в них был устроен музей. Вкус митрополита, подкрепляемый достаточными средствами, проявился и тут. Покои были превосходно обставлены, мебель и предметы обстановки были выполнены по специальному заказу аугсбургскими мастерами. (После закрытия Лавры обстановка вифанский келий митрополита Платона легла в основу экспозиции Сергиевского музея-заповедника, посвященной «быту церковников XVIII в.»).
Церковь Спасо-Вифанского монастыря
Только в Вифании, да еще в Перервенском монастыре, и можно было увидеть митрополита Московского Платона на склоне его лет самим собой, когда и гостям из Кембриджского университета он предстал в простом домашнем облачении, шерстяных носках «самой грубой работы», широкополой шляпе, сидящим на скамейке и по-стариковски греющимся на солнце. И здесь его также невозможно было узнать в простой одежде, как в XIV в. не узнан был своим почитателем святой основатель Троицкой обители, сам преподобный Сергия, пока к нему не обратился князь.
В своем завещании, прежде чем перечислить суммы, оставленные в банке на Лавру и Воспитательный дом, на Троицкую семинарию и учеников-платоников, на богадельню, Вифанский монастырь с Вифанской семинарией, он написал: «Денег после меня других не останется, и потому прошу в изыскании их не трудиться; ибо какие были деньги от жалованья и доходов, те все, по желанию моему, распределены».
Кстати, для человека рационального XIX в., каким был его биограф И.М. Снегирев, митрополит Платон ‒ «враг роскоши и расточительности».
Родился на Украине, был четвёртым ребёнком в семье, рано потерявшей кормильца. После окончания школы год провёл в монастыре, где работал в свечной мастерской. Учился в Киевской и Одесской семинариях, научился мастерски составлять проповеди. После службы в армии закончил семинарию и поступил в Ленинградскую духовную академию, где защитил диссертацию по богословию «Исторический обзор взаимоотношений Русской и Римско-Католической Церквей». Работал рефернентом в Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата (ОВЦС МП), продолжая обучение в аспирантуре Московской духовной академии. В 1971 году ленинградский митрополит Никодим постриг референта в монашество, в том же году новопостриженный стал иеродиаконом и иеромонахом, а уже в 1972 году Никодим возвёл своего сотрудника в архимандриты и отправил его в Аргентину.
16 декабря 1973 года патриарх Пимен возглавил архиерейскую хиротонию Платона, назначенного епископом Аргентинским и Южноамериканским (вместо епископа Максима). В 1977 году бывший свечник стал архиепископом и экзархом Центральной и Южной Америки (предшественником его по управлению экзархатом был архиепископ Никодим).
В 1980 году Платону пришлось сменить на Свердловской и Курганской кафедре заболевшего архиепископа Климента, одновременно он получил во временное управление Челябинскую епархию. Деятельность Платона на Урале была успешной, в 1983 году он смог открыть приход в Камышлове - первый в епархии за тридцать лет. Кроме того, в 1981 году архиепископ вернулся в ОВЦС, уже в качестве заместителя председателя (эту должность он сохранял до 1986 года).
В 1984 году Платон занял Ярославскую и Ростовскую кафедру после ухода на покой митрополита Иоанна. Новый архиерей вернул РПЦ восемь храмов в Ярославле и более пятидесяти по области, начал восстановление Толгского и Спасо-Яковлевского монастырей, обнаружил множество мощей - князей Фёдора Ростиславича, Давида и Константина Фёдоровичей, Василия и Константина Всеволодовичей, святителей Димитрия, Иннокентия и Игнатия, преподобного Авраамия.
В 1990 году Платон участвовал в Поместном соборе, внёс предложение о снижении числа голосов, необходимых кандидату от Поместного собора для включения в окончательный список кандидатов в патриархи, но принято оно не было. Сам архиепископ предложил кандидатуру митрополита Волоколамского Питирима. Помимо этого, Платон принимал участие в дискуссиях, например, предложив обратиться с посланием к прихожанам РПЦЗ.
Ещё в патриаршество Пимена Платон был избран народным депутатом и членом Верховного совета РСФСР, работал в комитете Верховного Совета по свободе совести, участвовал в написании закона «О свободе вероисповеданий». По мнению современных социологов, этот закон открыл «простор для образования многочисленных новых религиозных объединений».
В 1993 году архиепископ был вторично назначен на Аргентинскую кафедру. В 2000 году участвовал в архиерейском соборе РПЦ, на котором высказался против ограничения полномочий Поместного собора. 29 февраля 2004 года возведён в сан митрополита.
В миру Левшин Петр Георгиевич, родился 29 июня 1737 г. в с. Чашникове Московской губернии в семье причетника.
В своей автобиографии митр. Платон описывает, что родился он на Петров день, на восходе солнца. Отец его, причетник Егор Данилов, получил известие о рождении сына в тот момент, когда ударил в колокол к заутрене, и, "оставив звон, потек от радости узреть родившегося". Такова была простота нравов, что никто не поставил ему этого в вину, наоборот, люди, узнав причину перерыва звона, радовались с отцом.
Родители Петра, будущего митр. Платона, были люди благочестивые. Мать его, Татьяна Ивановна, как только ребенок начинал говорить, научила его произносить имя Божие и учила молитвам, доступным его детскому возрасту. К тому же она была трудолюбивая хозяйка и, несмотря на скудость средств, умела одевать детей опрятнее чем другие, более богатые.
С шести лет Петра начали учить грамоте, а восьми лет он уже свободно читал и пел в церкви и мог один править на клиросе во время литургии. Имел "светлый и приятный" голос (впоследствии тенор), за который его любили и в селе, и позже в академии. На десятом году Петр был отдан в Заиконоспасскую академию. Отец его в это время был уже священником, но по стечению обстоятельств, не в Московской, а в Коломенской епархии. По существовавшему порядку он и детей должен был отдать в Коломенскую семинарию, но ему этого очень не хотелось и он усиленно просил, чтобы Петра и его младшего брата Александра приняли в лучшую тогда Заиконоспасскую Славяно-Греко-Латинскую академию. Секретарь Московской консистории и два, и три раза отказывал ему, но он продолжал настаивать. Наконец, удивленный секретарь "пред всеми сказал: "Ну, ты прямо отец детям: здесь мы не можем обирать денег от священников, кои просят, чтобы их детей в школу не брали, а от тебя не можем отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить". Наконец, настойчивость отца увенчалась успехом, и дети были определены по его желанию.
Когда детей привели в академию, их принял префект Иоанн Козлович (впоследствии епископ Переяславский). Ободряя новичков, он сказал им: "Учитесь, детки, после протопопове будете". Предсказание его сбылось в такой степени, на которую он даже не решался намекнуть: Александр впоследствии стал протопопом Московского Архангельского собора и членом Синода, а Петр-Платон — "протопопов начальником".
Годы обучения для Петра были очень трудны в материальном отношении. Жил он в Москве и старшего брата Тимофея, бывшего в то время пономарем в храме Софии Премудрости Божией на берегу Москвы-реки, и в училище ходил "босиком, с грошом на обед", а новые коты нес в руках и надевал только у входа в академию. Однако это не смущало его. Всю жизнь он был веселого нрава, любил посмеяться и пошутить, но не увлекался юношескими забавами, а всему предпочитал чтение книг, которые перечитывал с жадностью, и хождение в церковь.
Учился он блестяще, так что однажды был переведен через класс. На его беду в этом именно классе преподавался греческий язык. Заметив, что отстает в этом отношении от товарищей и не имея средств купить учебник, Петр выпросил на время у товарища греческий учебник на латинском языке, переписал его и начал учиться самоучкой. Сначала он обращался к помощи товарищей, а потом начал ходить в греческий монастырь, прислушивался к чтению и пению греков, замечал их произношение. Со временем он достиг такого совершенства, что по окончании академии был назначен преподавателем греческого языка. Так же самоучкой он учился географии, истории, французскому языку и другим наукам, всю жизнь изучал что-нибудь новое.
Блестящие успехи Петра Левшинова, как его тогда звали, привели к тому, что когда в Москве открылся университет, он был назначен туда студентом, но отказался, так как стремился к принятию монашества. Подобный случай повторился в 1760 г., когда иеромонах Платон вместе с архим. Гедеоном, начальником Лавры, был в Петербурге. Известный покровитель просвещения И.И. Шувалов предложил отправить его на свой счет в Париж, в Сорбонский университет, но архимандрит на это не согласился.
По академическому обычаю, на Петра Левшинова была возложена обязанность толковать Катехизис по воскресным дням. За эти толкования его называли "вторым Златоустом" и "московским апостолом". На собеседования сходилось множество народа, некоторые с детьми. Во вместительной палате теснота и духота были чрезмерные, так что молодой проповедник во время двухчасовой проповеди обливался потом. Усердие слушателей воодушевляло его. Впоследствии он говорил, что никогда не был так счастлив, как в это время, и никогда его с таким усердием и жадностью не слушали, хотя, когда он стал архиереем, "собрания тоже были велики и ревностны".
Испытываемый в то время высокий духовный подъем он объяснял тем, что "был тогда сердцем чище", и со смирением говорил, что теперь его грехи умножились.
Через год после окончания академии Петр Левшинов был переведен преподавателем в семинарию при Лавре. Скоро он был пострижен в монашество с именем Платона и через год рукоположен во иеромонаха. Архимандритом Лавры был в то время Гедеон Криновский, придворный проповедник и член Св. Синода. Живя в Петербурге, он не раз вызывал к себе иеромонаха Платона. Проповеди последнего в Петербурге привлекли к нему внимание некоторых высокопоставленных лиц. Он сделался известен имп. Екатерине, которая назначила его законоучителем наследника престола Павла Петровича, а через 10 лет, когда Платон был уже архиепископом Тверским, — и невесты наследника, Натальи Алексеевны. Интересно, что на последнем назначении настояла мать невесты, герцогиня Гессен-Дармштадская, читавшая на немецком языке сочинение архиеп. Платона "Сокращенное христианское богословие". После смерти Натальи Алексеевны преосвящ. Платон был законоучителем и второй жены Павла Петровича. Такое положение вынуждено преосвящ. Платона, вопреки монашескому сану, держать себя иногда, как светскому человеку. Он бывал на приемах во дворце, бывал даже в театре, в большой ложе, назначенной для членов Синода. Но его тяготило это вращение среди светских людей, и он был рад, когда его назначили архимандритом Троице-Сергиевой Лавры, и он, по должности, мог жить в тихом Сергиевском подворье.
В сентябре 1770 г. Платон был хиротонисан архиепископом в Тверь, а в январе 1775 г. переведен в Москву с оставлением архимандритом Троице-Сергиевой Лавры. Но как члену Синода и законоучителю вел. княжны, по-прежнему жить ему приходилось в Петербурге. Только с большим трудом, ссылаясь то на болезнь, то на необходимость лично заняться епархиальными делами, удавалось ему "отпроситься" на некоторое время в Лавру и епархию.
Наведением порядка в епархиях митр. Платон занимался со свойственной ему энергией. Он обращал особенно внимание на духовные школы и обители. Испросил увеличения средств Тверской семинарии с 800 руб. в год до двух тысяч, благодаря чему увеличилось количество учащихся. Высоко поставил Московскую духовную академию, построил при ней общежитие (бурсу) и довел число учеников с 250-300 человек до тысячи. Завел малые школы при монастырях на монастырские средства. Заботился о развитии в питомцах духа истинной церковности, выдвигал даровитейших на служение Церкви. Сонм его учеников-иерархов очень велик, а учеными и добропорядочными священниками он наполнил чуть ли не всю Москву и даже ее окрестности.
Сам строгий инок, всей душой преданный монашеству, он много обителей устроил и благоукрасил, и воскресил в них дух истинного монашества, призвав для этого учеников великого старца Паисия Величковского. Из обновленных и воодушевленных им к подвижничеству обителей особенно замечательным Пешношская и Оптинская.
Митр. Платон с детства был глубоким и благоговейным почитателем преп. Сергия. Он составил ему акафист и в течение всей своей жизни усиленно заботился о благолепии и благосостоянии Лавры. В начале его служения в Москве (1778 г.) он на полученные из казны 30 тыс. рублей украсил Лавру, сделав чуть ли не во всех храмах стенную роспись и новые иконостасы (в Троицком соборе — обложенный серебром), устроил Серапионовскую и Максимовскую палатки и многое другое.
В 1808 г. покрыты медью с позолотой главы в Троицком и Успенском соборах, на Духовской и трапезной церкви. Сделана сень серебряная на столбах в Троицком соборе ценою в 20 тыс. рублей и серебряная рака над мощами преп. Никона. В 1795 г. митрополит пожертвовал туда серебряный семисвечник, дарохранительницу весом 9 ф. золота и 32 ф. серебра. Семисвечник этот в виде разделяющейся на семь частей ветви с чеканными листьями, представляет собой образец художественной ювелирной работы и в то же время христианского настроения жертвователя. На основании его сделана надпись: "Твоя от Твоих, Тебе приносит через Твоего Архиерея, Всечестного и Великого Архиерея....грешный Платон в лето...якоже вдовицы прими и мою лепту".
Кроме того, митр. Платон основал и благоукрасил известный каждому благочестивому уму монастырь Вифанию, в 1779 г. возобновил Николаевскую Берлюковскую пустынь; в 1808 г. построил храм во имя св. Троицы в Троицком Стефано-Махрищенском монастыре Владимирской губернии и т. д. Возобновил архиерейские палаты в Москве, разрушенные и разграбленные во время чумного мятежа в 1771 г.
Большой заслугой митр. Платона (тогда еще архиепископа), вскоре после назначения его на Московскую кафедру, было уничтожение "бесчестного крестца" у Спасских ворот, где собирались отрешенные от мест, а иные и запрещенные или состоящие под судом "бродяги-попы". За самую малую цену (5-10 коп.) нанимались они служить обедни. "Делало это нестерпимый соблазн, но Бог помог архиепископу все сие перевести, так что сего и следа не осталось, хотя оно продолжалось, может быть, через несколько сот лет и хотя прежние архиереи о том же старались, но не успели". И мало того, что не успели, но всего несколько лет назад попытка еп. Амвросия уничтожить этот крестец была одной из причин, приведших к мятежу и его убийству; так что кроме всего прочего, для этого дела требовалось и немалое мужество.
Уменьшил митр. Платон и число домовых церквей, соединил приходы, чтобы они могли безбедно содержать священников, так как заметил, что чем беднее духовенство, тем более подвержено оно разным порокам.
"Не много уважал" он и принятые тогда выборы прихожанам священно- и церковнослужителей, которые часто вели к злоупотреблениям. Сначала многие были этим недовольны, но потом увидели, что священники им назначаются хорошие и гораздо лучше выбранных ими, и перестали роптать.
Как писал сам Платон, "в производстве дел он не взирал ни на сильные лица, ни на просьбы, ни на слезы, коли то находил со справедливостью законною несообразным и с расстройством общего порядка паствы". Когда считал нужным, не считался он и с тем, что мог навлечь на себя царское неудовольствие. Этим пользовались враги митрополита, опасавшиеся его ума и влияния. Было время, когда только дружба с Потемкиным спасала его от царской опалы. За связь с Лопухиным и Тургеневым его чуть было не обвинили в масонстве. Оправдало его только найденное в бумагах Новикова письмо Лопухина, который писал, что "никак не мог убедить Платона вступить в их общество".
Так получилось и при восшествии на престол имп. Павла. Павел очень любил своего бывшего учителя, 15 лет переписывался с ним, но на него произвело неприятное впечатление то, что во время коронации митрополит предложил ему при входе в алтарь снять шпагу. Заметнее охладел к нему Павел после того, как преосвящ. Платон протестовал против награждения духовенства орденами.
Между тем силы митрополита иссякали. Еще в сравнительно молодом возрасте он страдал от тяжелых геморроидальных и почечных колик (от камней в почках), доводивших его подчас до полного изнеможения. С годами приступы усилились, заставляя опасаться за его жизнь. Не раз просил он об увольнении на покой, но получал ответ, что может, когда захочет, жить в Троице-Сергиевой Лавре, поручив дела викарию.
В 1805 или 1806 г. с ним произошел удар, от которого митрополит уже не оправился. Силы его слабели. Управление делами он постепенно передавал викарию, еп. Августину. Наконец, в 1811 г. он был освобожден совершенно до выздоровления. Но после этого (уже в самом конце своей жизни) митр. Платону пришлось перенести страшное душевное потрясение — нашествие Наполеона, взятие и пожар Москвы. Когда уже столица начала пустеть, улицы ее были наполнены только отъезжавшими из нее или обозами с военными снарядами и ранеными, тогда из Вифании прибыл митр. Платон в последний раз взглянуть на любезную ему Москву. Говорят, что он хотел было ехать на Бородинское поле или Поклонную гору и благословением своим одушевить воинство к битве за Москву.
Приехав в Чудов монастырь 28 августа, он сел в креслах на входном крыльце и долго со слезами смотрел на Кремль, как будто прощаясь с ним и как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку и его жребий.
1 сентября митр. Платон возвратился из Москвы в Вифанию, а 2-го французы заняли столицу. Но после этого митрополит никак не хотел оставлять Вифанию, и только когда неприятель стал появляться в ближних селениях, принуждаемый окружающими, выехал в Махрищи.
Нетленно почивает в созданном им Спасо-Вифанском монастыре, в Преображенском храме.
Митр. Платон был одним из величайших русских святителей XVIII в. и плодовитейшим духовным писателем своего времени. Он не только писал и проповедывал, но и других побуждал к тому же. Духовная литература того времени по количеству произведений и по качеству содержания была обширнее и богаче светской.
С наблюдательным, верным взглядом на людей и на вещи, с счастливой памятью, он имел дар слова как в проповеди, так и в рассказах. Свободны, простой, живой, увлекательный, любил слушать, любил и сам говорить. Проповеди его — не образец красноречия, но надобно было видеть и слышать его декламацию без порывов и вспышки, всегда умеренную, всегда достойную седин, сана и святыни. Он знал тайную силу голоса, всегда у него светлого; знал, где возгреметь и где стихнуть для своей цели, разумел действие движений и не сокрушал, но речь его была исполнена жизни, и если не все, слушая проповеди его, отирали слезы, то, конечно, никто не выходил из церкви без сожаления и желания еще послушать его.
Умный и образованный, обладавший редким умением отличать и выдвигать талантливых людей, он любил храм и богослужение, дорожил церковной стариной и заботился о сохранении ее.
Глубокая чувствительность души его проявлялась при богослужении, почти всякий раз при чтении Символа веры и молитвы Господней он заливался слезами от душевного умиления. К Божественной трапезе всегда приступал со слезами. Отличительными свойствами его благородной души были: благодарность, прямодушие и чистосердечие.
Память его благоговейно чтится из рода в род, а совершающиеся по временам знамения милости Божией, исцеления у гроба его служат несомненным вестником того, что за гробом почивший обрел себе блаженную часть спасаемых.
Некоторые случаи из жизни митр. Платона
Однажды в Троицкой Лавре монах принес ему кусок черного заплесневелого хлеба с жалобой, что кормят таким хлебом. Митрополит, взяв этот кусок, стал его есть, между тем завел разговор с монахом и, когда съел, то спросил, как будто забывши, с чем монах пришел к нему. "Жаловаться на дурной хлеб", — отвечал монах. — "Да где же он?", — спросил митрополит. "Вы его изволили скушать", — "Ну, поди и ты сделай тоже, что я", — сказал ему спокойно митрополит. Урок терпению монашескому.
Игуменья Новодевичьего монастыря Мефодия любила вспоминать, как у нее во время оно бывал в гостях покойный митр. Платон. Когда он приезжал к ней неожиданно, и она просила его остаться обедать, то он бывало уж непременно спросит: "А старая гречневая каша есть? А то не сяду с тобой обедать". Если в игуменской келье не оказывалось старой гречневой каши, то послушницы отправлялись на поиски по всем кельям и, конечно, почти всегда находили любимое кушанье владыки.
Пользуясь подозрительностью Павла (императора), придворная интрига злоупотребляла этой слабостью доброго по природе государя. Завидуя митр. Платону, которого император отличал знаками особого благоволения и доверия, завистники желали уронить его в глазах Павла. Известно, что император вел переписку с Платоном. Вот ему и сказали: "Ваше Величество, вы все пишите Платону, он мало ценит ваши письма; ведь он ими оклеивает окна". Павел вспылил, и подозрение запало в его душу. Приехав в Москву, он неожиданно для Платона прибыл в Вифанию. Платон встретил его с радостью, но мрачный вид императора дал понять изучившему его Платону, что он переживает мучительно состояние. "Веди меня по твоим комнатам", — сказал император. Платон его водит, а император все присматривается к окнам.
— Ты не все показал мне комнаты!
— Государь! Ты видел все, отвечал Платон.
— Нет не все, раздраженно возразил император.
— А если ты сомневаешься, государь, возьми мелок и отмечай всякую дверь. Увидишь без отметки дверь, ну значит, там не был. Убедившись, что митрополит сказал правду, Павел, войдя в зал, открыл ему причину своего странного поступка. "Мне сказали, что ты моими письмами оклеиваешь окна".
Митрополит опускается на колени и говорит: "Государь! Умолял я тебя и теперь умоляю: не верь ты клевете. Она пагубна для тебя вдвойне: пагубна как для человека, пагубна как для монарха". Тронутый искренним словом своего духовного наставника, Павел бросился к нему на шею, как стоял тот на коленях, и стал целовать его. Между тем императрица, любовавшаяся до того из окна гостиной на Лавру, вдруг оборотилась к стороне залы. Увидев как император почти накрыл собою стоявшего на коленях митрополита, она бросилась туда. "Что такое? Что такое?" — отчаянно крикнула она.
Император, поняв ее ошибку, рассмеялся. Он поднял митрополита и сказал ему: "Зови, владыка, своего повара и заказывай ему обед; я буду у тебя обедать и останусь ночевать". Император был весел, осматривал местность и весь день провел в беседе с знаменитым святителем, а уезжая на другой день, приказал ему в гостинной комнате, в память его пребывания и ночлега, устроить императорские гербы.
Однажды митр. Платон стоял на хорах придела Преображения, а возле него встал какой-то священник, не видавший никогда митрополита, к которому имел дело. Перед выходом с евангелием причетник поставил свечу в северных дверях, а сам, полагая, что пока будут читать "блаженны", успеет сбегать вниз, побежал по лесенке. Между тем, диакон подходит с евангелием к северным дверям, а свечу некому понести. Митрополит, заметив это, говорит священнику: "Возьми свечу, понеси". — "Не подобает", — отвечал батюшка, — я иерей". Тогда митрополит идет сам, берет свечу, преподносит ее, а по входе диакона в алтарь, становится против царских врат, пока священник преподал благословение, затем относит свечу на южную сторону и, поставив ее на место, кланяется спесивому батюшке: "а я митрополит!".
Труды
- Акафист кн. Даниилу. М., 1795.
- Акафист преп. Сергию Радонежскому чудотворцу. М., 1795.
- Инструкция благочинным священникам. М., 1775.
- Катехизис, или первоначальное наставление в христианском законе, толкованное всенародно, 1757 и 1758 гг., ч. 2. М., 1781.
- Краткий катехизис ради обучения малолетних детей христианскому закону. М., 1775 и Вена, 1773, вып. 8.
- Сокращенный катехизис для обучения отроков с присовокуплением молитв и христианского нравоучения.
- Сокращенный катехизис для священнослужителей с прилож. мест из слова Божия, правил св. апостол. и св. отец и духовного регламента и присяг. М., 1775.
- Православное учение, или сокращенное христианское Богословие, с прибавлением молитв и рассуждения о Мелхиседеке. СПб, 1765.
- Увещание раскольникам с чиноположением, как принимать обрающихся из них к Православной вере. СПб, 1766.
- Христианское нравоучение к первой русской азбуке.
- Наставление для окрещенного им из турок Магмета в св. крещении Моисея Петровича Платонова.
- Житие св. Сергия Радонежского.
- Краткое истор. опис. Свято-Троиц.-Серг. Лавры, 1790 г.
- Записки о путешествии в Киев, 1804, изд. Снегиревым в Приб. к жизни митр. Платона. М., 1856.
- Путевые заметки о путешествии в Ростов, Ярославль, Кострому, Владимир, 1792 (там же).
- Краткая Российская церковная история. М., 1805 в 2-х ч.
- Записки о своей жизни митр. Платона (с 1808 до 1812 г. ведены наместн. Лавры Самуилом Запольским).
- Ответы на 16 вопросов Вольтера.
- Проповеди (в количестве 500).
- Переводы: 31 письмо св. Григория Богослова (из Тацита), с греч. Три слова Иоанна Златоуста, Слово св. Иоанна Дамаскина на Успение Божией Матери, Слово св. Епифания Кипрского, Три слова св. Григория Богослова.
Митрополита Платона называли, "самым блестящим светилом иерархии Екатериновских времён". Простой сын дьячка из Подмосковья очень рано принявший монашество в возрасте чуть за 20 лет. Закончил Московскую Академию, преподавал риторику в Троицкой духовной семинарии. Вскоре стал профессором и ректором.
В то время Министр Народного Просвещения (Образования) России, граф И.И.Шувалов будущего митрополита хотел послать для иностранного образования учиться в Париж, но высшее духовенство России не хотело выпускать из России такого человека и не дало благословение.
Однажды в Троицкую Лавру приехала Императрица Екатерина Вторая. Ей очень понравилась проповедь молодого иеромонаха Платона. Но императрица была под большим впечатлением не только от слова священника, но и от высокой цветущей фигуры молодого мужчины.. Она лично решила познакомиться с ним и кокетливо спросила: "Зачем же Вы пошли в монахи?". Платон ответил: "Из-за великой любви к просвещению". Императрица решила увезти его в Петербург и сделать "придворным проповедником".
Екатерина Великая быстро позаботилась о всех благах для Платона. По её ходатайству Платон сразу стал архимандритом и настоятелем Свято-Троицкой Лавры, хоть жить ему приходилось при императрицы во дворце Петербурга и иметь высокое жалование. Официально Платон при имперском дворе числился законоучителем сына императрицы и наследника престола Павла Петровича, но на самом деле ему предстояла заниматься с невестой наследника принцессой Гессен-Дормштадской Вильгельминой, будущей православной цесаревной Натальей Алексеевной. Надо было её обучать вере православной.
Императрица держала Платона при себе. Где бы она не появлялась, ей нравилось щеголять тем, что при ней такой умный и образованный монах и православный священник. Платон владел немецким и немного французским, а так же в совершенстве знал латынь. А потому императрица имела великую гордость представить Платона Польскому Королю, Станиславу Понятовскому, а так же Королю Австрии, Иосифу Второму. Императрица даже просила Платона погулять с Королём Австрии по Москве и показать гостю город. Позже Король Австрии скажет, что больше всего с прогулке по Москве ему понравился...Платон.
В 1768 году Платону дают сан епископа, вводят в состав членов Священного Синода и назначают на кафедру города Тверь. Правда императрица очень часто отзывала его для дел в свой дворец.
Однако такое увлечение молодым епископом не могло нравиться духовнику императрицы, протоиерею, Иоанну Памфилову . Этот священник из белого духовенства терпеть не мог епископов и монахов, открыто говоря, что им не место во дворце. Екатерина Великая слушала своего духовника и делала всё с его благословения, а потому и она всегда отдавала предпочтение женатым священникам, пока не повстречала монаха Платона. Для Иоанна Памфилова ни один епископ не был авторитетом, он знал, что его духовная дочь, императрица Екатерина Великая выше всяких церковных владык. Кроме того, Екатерина была Крёстной матерью его сына .
В 1775 году Священный Синод постановил епископу Платону быть епископом города Москвы. Владыка Платон испугался этого назначения. Он понимал, что теперь он должен будет стать начальником для духовника императрицы, который епископов не признаёт. Платон лично писал прошения и наследнику цесаревичу Павлу и его супруге, и князю Потёмкину и наконец самой императрицы Екатерине, чтобы они посодействовали отмене этого решения синода. На что императрица ответила:"Держись моего указа и всё будет хорошо!" . Платон перечить не посмел.
Семь лет епископ Платон правил Московской кафедрой. Он очень заботился о духовенстве именно низов, о простых монахах и видел как протоиерей Иоанн Памфилов настраивает императрицу против монашества. Кроме того, до этого времени, ни кто не награждался из женатых священников митрой. Однако Иоанн Памфилов заметил императрицы, почему же каким-то невеждам архимандритам украшаться митрой можно, а культурному протоиерею нельзя. Императрица Екатерина практически приказала епископу Платону, наградить митрой её духовного отца. Так в 1786 году в Русской Церкви в митре появился первый священник белого духовенства. Им стал протоиерей Иоанн Памфилов, с тех пор таких протоиереев именуют митрофорными, однако ни в одной другой Восточной Православной Церкви женатых священников митрами не награждают.
Сам епископ Платон считал это уничижением митры. А протоиерея Иоанна назвал "Папа-Митрус" и стал называть "Папой женатого духовенства".
Этот случай подвиг епископа Платона просить императрицу освободить его от епископства и от проживания в Москве. Императрица ответила, что епископ может жить там где пожелает, но с кафедры Москвы не увольняется, а если нет сил эту кафедру содержать и окормлять духовно, то может себе выбрать помощника, Викарного епископа.
Чтобы как-то удержать Платона в Москве, императрица решила даровать Платону звание митрополита Московского и наградить его белым клобуком. Это был такой прыжок через ступень архиепископа. Однако митрофорный протоиерей и духовник императрицы Иоанн Памфилов не благословил императрицу на такой шаг.
В это дело вмешался наследник Павел Петрович, он стал требовать у матери императрицы сделать Платона митрополитом. Ведь наступал праздник апостолов Петра и Павла и День именин наследника, которому хотелось, чтобы эту литургию ему служил митрополит в белом клобуке, да и знал наследник, что этот день, это ещё и день рождения епископа Платона и для него был бы хороший подарок. Императрица не послушалась своего духовного отца и объяснила ему, что Платон ни чем не заслужил так долго ходить по Москве в епископах.
И вот в праздник апостолов Петра и Павла за одним престолом стоят протоиерей Иоанн и епископ Платон. Отец Иоанн поминает Платона Митрополитом. Платон смутился и шепнул: "Отец Иоанн, Вы ошиблись, я епископ". На что услышал ответ от протоиерея: "Мне так велено молиться". Митрополит Платон вышел из алтаря и поклонился императрицы.
Уже назавтра императрица наградила Платона ещё раз, теперь она подарила брильянтовый крест на клобук.
Каково же было реальное отношение императрицы к митрополиту, это можно узнать с её дневника. Там она пишет, что митрополит Платон в белом клобуке и брильянтовым крестом высмотрит "как павлин кременчугский" и делает запись, что этот митрополит "Блудлив как кошка, труслив как заяц ".
Митрополит Платон не мог не видеть отрицательных сторон для Церкви в правлении Екатерины Великой. Он пишет: "Всё кажется катиться к худшему. Не удивляюсь о жалком положении нашего духовенства, зная, что привлечены светские начала, отчего и проистекает всё зло, именно им вверена вся власть. Нас ни во что не ставят, и не только хотят подчинить себе, но уже считают подчинёнными. О Боже Благий... Уже нет ничего утешительного. Делами я завален. Иногда, прогуливаюсь, задумываюсь. Силы душевные и телесные оскудевают. Ни о чём больше не думаю, как о покое и увольнении" .
Митрополит Платон при Екатерине Великой очень много сделал для Церкви. Он отменил такое наказание как "отдачу под начал". То есть, это наказание заключалось в том, чтобы священников унизить самой грязной работой на глазах детей и учащихся...например колоть дрова в школе, чистить туалеты, разносить пищу в столовой..." Платон это запретил указом. К тому же, митрополита Платона, когда он уже был священником и преподавателем семинарии, митрополит Московский того времени, приказал выпороть розгой за плохую работу при всех семинаристах
. И хоть императрица уже в 1767 году отменила своим постановлением телесное наказание для священников, но Платон добился указа о запрете порки дьяконов. Кроме того, в архиерейских домах были настоящие тюрьмы и даже оковы для непослушных священников
. Митрополит Платон добился у императрицы запрета на подобные наказания священников епископами.

В 1796 году на трон императора взошёл сын Екатерины Великой, 42 летний Павел Первый .
Именно Павел ещё до восшествия на трон считал митрополита Платона своим другом и делился с ним всеми скорьбями и радостями. Именно Павел уговорил митрополита остаться на Московской кафедре. Не известно, как митрополит Платон переживал кончину Екатерины Великой, но с приходом на трон Павла Петровича, митрополит Платон вдохновился некими надеждами на лучшее будущее для Русской Православной Церкви. Да и сам император Павел считал митрополита Платона своим духовником и сердечным другом.
Новый император сразу по просьбе митрополита поднял жалование для духовенства, передал приходам и монастырям земельные угодья отнятые ещё его отцом Петром Первым. Выросло число семинарий. Однако не забывал он и о женатом духовенстве. Продолжал награждать всё того же любимца усопшей матушки, отца Иоанна Памфилова, впервые Церковь по его ходатайству женатых священников награждала наперстными крестами и малиново-бархатными, а не фиолетовыми скуфьями. Случилось и нечто вообще "ужасное", новый император стал награждать духовенство государственными орденами .
Был орденом от императора награждён и митрополит Платон. Митрополит упал на колени перед императором и сказал: "Позволь мне умереть архиереем, а не кавалером! "
Но со временем император Павел Петрович стал склоняться к католицизму, что не могло уже нравиться митрополиту Платону.
Платон же наоборот вошёл в историю Церкви, как человек, который всех желал сплотить вокруг Православия. И он первый, кто уделил много сил для воссоединения староверов и православных после Никоновского раскола 1666 года. Митрополит Платон в 1801 году (за 11 лет до своей смерти) утверждает Единоверие .
Московские старообрядцы не один раз пробовали просить себе священника у Православной Церкви. Они обращались к митрополиту Платону и в Синод еще в 80-е годы XVIII века, но тогда московский архипастырь проявил необыкновенную осторожность: он усомнился в искренности просителей. Известно, что митрополит Платон раздраженно отреагировал на сообщение епископа Никифора (Феотоки) о рукоположении священника для старообрядцев и разрешении ему служить по старому обряду. Тогда он выступал за присоединение старообрядцев без всяких условий, иначе будет «хромание на оба колена». Он был против такого варианта. Его безпокоило то, как сохранить лицо, т.к. долгое время шла борьба с древнерусским церковным укладом. Позднее московские старообрядцы решили обратиться, минуя митрополита, прямо к высшей светской власти
Они просили даже самостоятельного епископа, который подчинялся бы не Святейшему Синоду, а государственной власти и имел бы при себе особое духовное правление.
Единственное требование к ним - поминать императора за богослужением по установленной тогда форме, они отвергли, отказались поминать его во время Великого входа, потому что этого никогда не было при старых русских Патриархах. Через некоторое время старообрядцы вновь обратились с ходатайством. Теперь они соглашались на подчинение Святейшему Синоду и епархиальному архиерею, правда, с изъятием их из ведения духовной консистории.
Митрополит Платон решил осторожно выяснить мнение по этому поводу у архимандритов московских монастырей и московских благочинных. В своем большинстве они отрицательно отнеслись к ходатайству старообрядцев, в то же время невозможно было не реагировать на позицию высшей светской власти. Митрополит остановился на среднем варианте: пойти навстречу просителям, проявить снисхождение, разрешить им употреблять старые обряды в надежде, что они «со временем Богом просветятся и ни в чем в неразнствующее с Церковью приидут согласие». Т.е. он рассматривал единоверие как переходный этап к полному, ни в чем не отличимому слиянию с Православной Церковью. Такую позицию занимал ряд иерархов в то время. Таким образом, на том первоначальном этапе бытия единоверия, оно не воспринималось на равных. Отголоски такого представления нередко встречаются и сегодня. По правилам митрополита Платона единоверцы могли безпрепятственно причащаться в новообрядческих храмах, а новообрядцы в единоверческих только «в крайней нужде». Присоединяться к единоверию можно было только там, «где никто никогда дотоле в Церковь Православную не ходил и таинств ее не принимал». Платон был категорически против того, чтобы в учреждаемых единоверческих храмах служили бы беглые попы, т.е. те, кто перешел к старообрядцам из Греко-Российской Церкви.
Митрополит Платон ограничил общение православных с будущими единоверцами. То есть православному дозволялось у единоверческого священника причащаться лишь при крайней нужде, в смертном случае, если нельзя было найти священника православного. А вот единоверец мог причащаться у православного священника в любой ситуации.
О том, насколько важен был вопрос о единоверии для митрополита Платона, говорит тот факт, что священник Полубенский в 1807 году был возведен им в достоинство протопресвитера - очень редкая не только награда, но и должность для того времени. И этим была отмечена особая важность положения единоверческого священника не только в Москве, но и в Православной Церкви.
Митрополит тяжело переснес известие о вторжении в Россию армии Наполеона и уме р, узнав о его отс туплении, 11 (24) ноября 1812 г.Митрополит Московский Платон, бесспорно, занимает первое место в ряду иерархов, украшавших Русскую Церковь в половине прошлого и начале нынешнего столетия. Имя Платона пользовалось и до сих пор пользуется большою известностью в русском народе. Посещающие Лавру преподобного Серия считают своим долгом побывать и в основанной митрополитом Платоном Вифанской обители, поклониться пред гробом святителя и помолиться о упокоении его души, посетить и его калию, где все живо напоминает о великом иерархе и его времени.
Знаменитый иерарх был происхождения незнатного. Незначительное село Чашниково, находящееся в 40 верстах от Москвы по большой петербургской дороге было его родиной; бедный сельский причетник Егор Данилович и его супруга Татьяна Ивановна были его родителями. Незначительные по своему общественному положению и не богатые по средствам родители митрополита Платона возвышались над многими и были богаты добрыми душевными качествами.
В своей автобиографии [*] , изображая свою жизнь с самого рождения, митрополит Платон описывает и душевные качества своих родителей, чтобы показать „что родителей свойства и во нравах рожденного от них некоторым образом были видимыˮ. „Отец Платона, Георгий, пишет он, был свойства горячего, но простосердечного и откровенного; лести не знающий и отвращающийся оной; также не корыстолюбив; особливо низким образом npиобретать почитал себе противным и в других предосудительным. А мать Татиана, быв благоразумна и рассудительна, была горяча к детям и о добром их воспитании, опрятном содержании весьма пеклася; наипаче, быв сама набожна и благочестива, и детей приучать богомолию и страху Божию первым долгом почитала. Была домостроительная хозяйка и щадила малое дома содержание, чтоб ничего не издержать на что-либо излишнее. Чрез что, хотя дом был и не богатый, однако ни в чем нужном, что до пищи, пития и одяния, не скудный; почему и детей своих в лучшей содержала опрятности, нежели другие, содержанием быв богатеe. Нравов была благородных, не любила низости, и чтоб во всем сохранить свою честь и от других почиташе заслужить, была всегда расположена. Службы Божией почти никогда не оставляла: нищих, по возможности всегда оделяла, с некоторыми своим удовольствием, и едва когда просящему отказывала. Была трудолюбива и воздержана, а тем и здравие хранила, и продолжила жизнь до 70 лет; и долее, может быть продолжилась бы жизнь ея, ежели бы свирепевшая в 1771 году в Москве заразительная язва жизни ея не пресекла, и погребена Москве в Новодевичьем монастыре. А отец священник Георгий, погребен в Москве же, при церкви приходской у Спаса во Спасскойˮ [**] .
В доброй и благочестивой семье Левшиных 29 июня 1737 года произошло радостное событие – рождение сына Петра, впоследствии знаменитого иерарха Платона. Обстоятельства его рождения остались памятными для родителей, вероятно потому, что в них они усматривали особые предзнаменования и записаны Платоном в его автобиографии. „Родился, пишет он, июля 29 дня, дня – посвященного празднованию первоверховных апостолов Петра и Павла, при самом восходе солнечном, и в самый тот час, когда отец его, по должности своей причетнической, ударил в колокол к утренней службе, и услышав в ту же минуту, что родился ему сей сын, оставив звон, потек от радости узреть родившегося. Cиe другие услышав, то есть, что начался звон и вдруг перестал, удивились и узнав тому причину, сорадовались обрадованному отцу; а может быть, что-либо из того заключили. Но, по крайней мере, Петр, а после Платон, что он родился в день великих Церкви учителей и проповедников, что при самом восходе воссиявшего солнца, что при звоне, созывающем всех христиан на службу Божию, и что после он удостоился быть и учителем Церкви, и проповедником Евангелия, и пастырем Христова стада, с некоторыми против других отличными обстоятельствами, чрез всю жизнь свою почитал cиe особливо счастливым и благодатным судеб Божиих предзнаменованиемˮ.
Обрадованные рождением мальчика, красивого лицом и здорового, родители Петра, особенно мать, которая, но словам Платона, „взирала на него, яко на дар Божийˮ, прилагали особенное попечение о его воспитании. Едва ребенок начал говорить, мать начала ему внушать имя Божие, научила молитвам и таким образом посеяла в душе его семена того глубокого благочестия, которое отличало его всю жизнь.

Виды Вифанского монастыря времен митрополита Платона
„На шестом году от рождения, пишет Платон в своей автобиографии, начали Петра обучать грамоте: азбуке, Часослову и Псалтири, а потом писать, каковой общий был тогда обучения порядок для всех нашего состояния отроков. Петр был весьма понятен, удобно и скоро все изучал. И хотя иногда к отроческим играм и резвостям был несколько склонен и от учения затем в некоторые часы удалялся, но за то от отца был наказуем, с большею, может быть, строгостью, нежели бы возраст лет и живость младенческого свойства дозволяли; однако и сию строгость матерние ласковые увещания приводили в умеренность. Научился младенец грамоте и писать чрез два года, и на восьмом году уже в церкви не только читал, но и пел церковные обыкновенные стихи, ибо и в пении по одной наслышке столько успел, что на том же году мог уже один без помощи другого, на клиросе отправить все пение Божественной литургии. Ибо и голос имел светлый и приятный, и к пению особенную склонность, и в церкви, на всякой службе Божией быть, его особенно веселило; о каковой его к церкви и к службе ее отличной склонности после не умолчу. И за таковое в таковых летах преуспеяние, и охоту к чтению и пению, и прибежище к церкви, а при том за свой всегда веселый и ласковый нрав, и от родителей и от сторонних был любим и поваляем и выхваляемˮ.
Когда Петру исполнилось десять лет, отец его, в то время бывший священником в селе Липицах, Коломенской епархии, решил Петра вместе с братом Александром отвести в Москву, где старший их брат Тимофей был пономарем при церкви Софии Премудрости Божией, и определить в Московскую Славяно-Греко-Латинскую Академию [***] . Но это намерение родителя встретило затруднение, которое могло неблагоприятным образом отразиться на последующей судьбе Петра Левшина. Когда Егор Данилович подал прошение в Московскую Духовную Консисторию об определении его детей в академию, то секретарь сего прошения не принимал, говоря, что ему, как находящемуся в Коломенской епархии, надлежит детей отдать в семинарию Коломенскую. „Но отец неотступно просил, рассказывает митрополит в своей автобиографии. Секретарь
два и три раза отказывал. Отец два и три раза настоял сильно. Напоследок секретарь, и утружденный и удивленный таким настоянием, пред всеми сказал: Ну! ты прямо отец детям; здесь мы не можем обирать денег от священников. кои просят, чтобы их детей в школу не брали: а от тебя не можем отвязаться, чтобы детей твоих в школу определить. И так принял прошение, доложил присутствующим. Послано сообщение в Коломенскую епархию, что увольняются ли они для обучения в Московскую академию. Там охотно уволили и прислали в сей силе соответствие.
Так Петр и брат его меньший, Александр (который после был диаконом в Москве, у Спаса в Спасской, а потом священником у Николая в Хамовниках, а после протопопом у Спаса на Бору, а наконец протопопом Большого Успенского собора и Синода членом и кавалером, который там и преставился 1798 года), определены в Московскую Греко-Латинскую Академию; а жительствовали при брате своем Тимофее, при церкви Софии Премудрости Божией. По приведении в академию, предстали пред префекта, который тогда был Иоанн Козлович, бывший после Донской архимандрит, и наконец, Переяславский епископ; и тамо умре. Префект ободрил представших пред него отроков, сказав: «Детки, учитесь, после протопопове будете». И cиe сбылось его пророчество: один и подлинно стал протопопом, а другой протопопов начальникомˮ.
О своем обучении в академии, занятиях, образе жизни, характере и душевных наклонностях юношеских лет любопытный сведения сообщает Платон в своей автобиографии. „По определении в академию, научился Петр в две недели читать и писать по-латыни. Потом переведен в фару, или низший грамматический класс [****] , где пробыв год переведен в грамматику, по прошествии года, в синтаксиму, или высший грамматический класс, чрез год в пиитику; по прошествии года в риторику, где пробыв два года переведен в философию; а чрез два года уже и в богословие. Учителя его были в фаре – Григорий Афанасьевич Драницын, в монашестве Геннадий, который после был префектом и ректором академии, и потом Суздальским епископом, где и преставился. В грамматике иеродиакон Лаврентий Чепелев, который в Иркутске в изгнании преставился. В синтаксиме упомянутый уже Драницын. В пиитике иеромонах Амвросий Юматов, который после был архимандритом в Китае, в Пекине, где и преставился. В риторике иеромонах Кирилл Григорович, который окончил жизнь свою несчастливо. В философии и богословии упомянутый уже Драницын или Геннадий.
Обучался Петр Левшинов (ибо так он прозывался) латинскому языку и помянутым наукам: пиитике, риторике, философии и богословию. Притом обучился сам собою географии, a знание истории приобрел всегдашним чтением исторических книг, к чему прилежал чрез всю свою жизнь, и не было для него приятнее упражнения, чем чтение истории, всей вообще и своей отечественной.
По тогдашнему в академии порядку, греческому языку обучались ученики особо, чрез два года по окончании синтаксиса, и из греческого класса переводимы были в пиитический; чрез что латинского языка учение прерывалось. По желанию учителя пиитического, чтобы Петра иметь у себя в классе, греческий класс он миновал; а чрез то и лишился знания греческого языка. Но дошедши до философии и увидев, что по многим встречающимся греческим словам, языка сего знание нужно, а притом, приметив, что некоторые товарищи его, впрочем, в успехах учения и худшие его, но греческий язык хотя несколько знают и тем пред ним преимуществуют, сам чувствительно тронуть был Петр, что он, товарищей в науках превосходнее, но знанием сего языка пред ними яко унижался. Почему горячо принялся, чтоб cиe желание свое выполнить. Но много встречалось затруднений.
Не было грамматики греческой, купить было не на что; да и учить некому. Но чего не преодолевает горячее прилежание и тщание? Выпросил на время у товарища грамматику греческую на латинском языке, сочиненную архимандритом Варлаамом Лащевским, и оную всю переписал, а чрез то и писать по-гречески научился, как бы срисовывая буквы греческие с печатных: почему и почерк его письма по-гречески был сходен с греческим печатным. Достав таким образом грамматику, начал сам себя но ней учить; себе уроки задавать; сам себя выслушивать; сам себя или похвалить за прилежание, или осуждать за нерадение. А как места случались, кои он уразуметь не мог, о том, приходя в школу, у товарищей своих, знавших греческий язык, спрашивал, и чрез то вразумлялся. Потом и задачи к переводу с российского на греческий сам себе задавал, а о словах греческих спрашивал у товарищей и записывал; и потому дома сочинив, показывал товарищам, кои, прочетши, или похвалили, или поправляли, чрез что по малу и успевал Левшинов. Но как сего было не довольно, ибо затруднительно, то вздумал он ходить в греческий монастырь, близ самой академии стоящий, на службу Божию, сколько время дозволяло, и со всем вниманием прислушивался к чтению и пению греков, и cиe много Петра выпользовало. Ибо и слова некоторый понял, и некоторое их сложение приметил, а паче правильное их произношение перенял, да и пению их несколько научился. А потом, когда стал учителем в академии, имел свободный случай с греками нередко обходиться, а чрез обхождение, разговаривая с ними хотя худо по-гречески, но чрез то себя поправлял, и нечувствительно больший успех приобретал. Ибо уже мог некоторый не трудный на греческом языке книги читать и разуметь, и с греками сколько-нибудь, хотя несовершенно, разговаривать, не попросту, ἀπλὰ "апла", как греки говорят, по по-эллински. А потому уже будучи в академии учителем пиитики, обучал учеников греческой грамматике; и всегда с удовольствием Петр о себе говорил, что он на греческом языке ἀυτοδιδάκτος "автодидактос", т.е. сам себе учитель: и cиe услаждение была истинная награда за не малые его в изучении греческого языка труды.

В прочих же во всех науках, в академии преподаваемых, был Левшинов отлично успешен, и из всех товарищей всеми был особенно любим от учителей за прилежание, за всегдашнее в школу хождение, за отличный во всем успех и за благонравие. А притом, как он изучался партесному пению, и имел голос приятный, и знал в пении искусство, то и cиe любовь к Петру учителей умножало. А товарищи его любили за добрый и веселый нрав и словоохотливость, с некоторой всегда пристойной шутливостью. Но Вог его сохранял, что никогда ни с кем он не ссорился и не бранился. Ибо имел нрав мягкосердечный, и в случай уступчивый, и стыдливый...
Примечания
[*] Митрополит Платон сам написал свою 6иографию. Составленная митрополитом и писанная им собственноручно автобиография его была продолжена (с 1810 г. по 1 ок. 1812 г.), по его поручение наместником Лавры и архимандритом Вифанскаго монастыря Самуилом Запольским Платоновым. Две рукописи, заключавшие в себе автобиографию Платона, были присланы епископом Костромским Павлом митрополиту Филарету в 1834 г. и пм переданы в ризницу Троицкой Сергиевой Лавры. Напечатана была автобиография Платона несколько раз. Последнее издание автобиографии Платона (1887 г.) принадлежит ректору Московской Духовной Академии С.К.Смирнову.
[**] Отец митрополита Платона поступил из Чашникова во священники в село Глухово, Дмитровского уезда, а отсюда перешел в село Липицы, Серпуховского уезда. Из Липиц поступил в Москву викарным священником сперва к церкви Николая Чудотворца, что у Краевых колокол, потом к церкви Спаса, что во Спасском. Последние годы проживал у сына своего диакона, той же Спасской церкви, Тимофея Левшина. Скончался в 1760 г и погребен при Спасской церкви, где до сих пор хранится его могила.
[***] Славяно-Греко-Латинская Академия помещалась в Заиконоспасском, монастыре.
[****] В фаре, низшем академическом классе, преподавались начатки латинской грамматики.