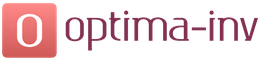Низами кто по нации. Биография низами гянджеви
С 1135/1136 по 1225 гг. частью территорий Азербайджана (ныне Иранский Азербайджан) и Аррана в качестве Великих Атабеков Сельджукских султанов Персидского Ирака правили Ильдегизиды. Эта династия была основана Шамседдином Ильдегизом, по происхождению кипчаком (половцем), вольноотпущенным гулямом (солдатом-рабом) сельджукского султана Персидского Ирака (Западного Ирана). Ильдегизиды являлись атабеками Азербайджана (то есть регентами наследников престола сельджукских султанов), по мере развала сельджукской империи, с 1181 года стали местными правителями и оставались таковыми до 1225 года, когда их территория, ранее уже захваченная грузинами, была завоевана Джалал-ад-Дином. Шамс ад-Дин Ильдегиз вероятно добился контроля над частью Азербайджана только в 1153 г. после смерти Касс Бег Арслана, последнего фаворита султана Масуда ибн Мухаммеда (1133-1152).
Соседний с Азербайджаном и Арраном Ширван составляло государство Ширваншахов, которым правила династия Кесранидов. Хотя династия имела арабское происхождение, к XI веку Кесраниды были персианизированы и заявляли, что являются потомками древнеперсидских сасанидских царей.
В последней четверти XII века, когда Низами начинал работать над поэмами, которые вошли в книгу «Хамсе» («Пятерица»), верховная власть сельджуков переживала упадок, а политические волнения и социальное беспокойство нарастали. Тем не менее, персидская культура переживала расцвет именно тогда, когда политическая власть была скорее рассеяна, чем централизована, a персидский язык оставался основным языком. Это относилось и к Гяндже, кавказском городе - отдаленном персидском аванпосте, где жил Низами, городе, который в то время имел преимущественно иранское население, о чём свидетельствует также современник Низами армянский историк Киракос Гандзакеци (около 1200-1271) (Киракос из Гандзака, Гандзак - армянское название Гянджи), который также как и Низами Гянджеви (Низами из Гянджи) был жителем Гянджи. Следует отметить, что в средние века армяне всех ираноязычных называли «парсик» - персами, что отражено в переводе того же отрывка на английский язык. При жизни Низами Гянджа была одним из центров иранской культуры, о чём свидетельствуют собранные только в одной антологии персидской поэзии XIII в. Нузхат ол–Маджалис стихотворения 24 персидских поэтов, живших и творивших в Гяндже в XI-XII вв. Среди ираноязычного населения Гянджи XI-XII вв. следует отметить также и курдов, значительному присутствию которых в городе и его окрестностях способствовало правление представителей династии Шеддадидов, имеющей курдское происхождение. Именно привилегированным положением курдов в Гяндже некоторые исследователи объясняют переезд отца Низами из Кума и поселение родителей Низами в Гяндже, так как мать Низами была курдянкой.
Персидский историк Хамдаллах Казвини, живший примерно через сто лет после Низами, описал «полную сокровищ» Гянджу в Арране, как один из самых богатых и процветающих городов Ирана.
Азербайджан, Арран и Ширван явились тогда новым центром персидской культуры после Хорасана. В «хорасанском» стиле персидской поэзии специалисты выделяют западную - «азербайджанскую» школу, которую иначе называют «тебризской» или «ширванской» или «закавказской», как склонную к усложнённой метафоричности и философичности, к использованию образов, взятых из христианской традиции. Низами считается одним из виднейших представителей этой западной школы персидской поэзии.
Биография
О жизни Низами известно мало, единственным источником информации о нём являются его произведения, в которых также не содержится достаточного количества надежной информации о его личной жизни, в результате чего его имя окружено множеством легенд, которые ещё более украсили его последующие биографы.
Имя и литературный псевдоним
Личное имя поэта - Ильяс, его отца звали Юсуф, деда Заки; после рождения сына Мухаммада имя последнего также вошло в полное имя поэта, которое таким образом стало звучать: Абу Мухаммад Илиас ибн Юсуф ибн Заки Муайад, а в качестве литературного псевдонима («нисба») он выбрал имя «Низами», которое некоторые авторы средневековых «тадхира» объясняют тем, что ремесло вышивания было делом его семьи, от которого Низами отказался, чтобы писать поэтические произведения, над которыми он трудился с терпеливостью вышивальщика. Его официальное имя - Низам ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад. Ян Рыпка приводит ещё одну форму его официального имени Хаким Джамал аль-дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад Низами.
Дата и место рождения
Точная дата рождения Низами неизвестна. Известно только, что Низами родился между 1140-1146 (535-540) годами. Биографы Низами и некоторые современные исследователи расходятся на шесть лет относительно точной даты его рождения (535-40/1141-6). По сложившейся традиции, годом рождения Низами принято считать 1141 год, который официально признан ЮНЕСКО. На этот год указывает сам Низами в поэме «Хосров и Ширин», где в главе «В оправдание сочинения этой книги» говорится:
Из этих строк следует, что поэт родился «под знаком» Льва. В той же главе он указывает, что в начале работы над поэмой ему было сорок лет, а он начал её в 575 году хиджры. Получается, что Низами родился в 535 году хиджры (то есть в 1141 году). В тот год солнце находилось в созвездии Льва с 17 по 22 августа, из чего следует, что Низами Гянджеви родился между 17 и 22 августа 1141 года.
Место рождения поэта долгое время вызывало споры. Хаджи Лютф Али Бей в биографическом сочинении «Атешкида» (XVIII век) называет Кум в центральном Иране, ссылаясь на стихи Низами из «Искандер-намэ»:
Низами родился в городе, и вся его жизнь прошла в условиях городской среды, притом в атмосфере господства персидской культуры, так как его родная Гянджа в то время имела ещё иранское население, и, хотя о его жизни известно мало, считается, что всю жизнь он провёл, не покидая Закавказья. Скудные данные о его жизни можно найти только в его произведениях.
Родители и родственники
Отец Низами, Юсуф ибн Заки, мигрировавший в Гянджу из Кума (Центральный Иран), возможно был чиновником, а его мать, Ра’иса, имела иранское происхождение, по словам самого Низами, была курдянкой, вероятно, дочерью вождя курдского племени, и, по некоторым предположениям, была связана с курдской династией Шеддадидов, правившей Гянджой до атабеков.
Родители поэта рано умерли. После смерти отца Ильяса воспитывала мать, а после смерти последней - брат матери Ходжа Умар.
Доулатшах Самарканди (1438-1491) в своем трактате «Тазкират ош-шоара» («Записке о стихотворцах») (окончен в 1487 году) упоминает брата Низами по имени Кивами Мутарризи, который также был поэтом.
Образование
Низами был по стандартам своего времени блестяще образован. Тогда предполагалось, что поэты должны быть хорошо сведущи во многих дисциплинах. Однако, и при таких требованиях к поэтам Низами выделялся своей ученостью: его поэмы свидетельствуют не только о его прекрасном знании арабской и персидской литератур, устной и письменной традиций, но и математики, астрономии, астрологии, алхимии, медицины, ботаники, богословия, толкований Корана, исламского права, христианства, иудаизма, иранских мифов и легенд, истории, этики, философии, эзотерики, музыки и изобразительного искусства.
Хотя Низами часто называют «Хаким» (мудрец), он не был философом, как Аль-Фараби, Авиценна и Сухраварди, или толкователем теории суфизма, как Ибн Араби или Абд Ал-Раззак Кашани. Тем не менее, его считают философом и гностиком, хорошо владевшим различными областями исламской философской мысли, которые он объединял и обобщал образом, напоминающим традиции более поздних мудрецов, таких как Кутб аль-Дин Ширази и Баба Афзал Кашани, которые будучи специалистами в различных областях знаний, предприняли попытку объединить различные традиции в философии, гносисе и теологии.
Жизнь
О жизни Низами сохранилось мало информации, но точно известно, что он не был придворным поэтом, так как опасался, что в такой роли он утратит честность, и хотел, прежде всего, свободы творчества. Вместе с тем, следуя традиции, свои произведения Низами посвящал правителям из различных династий. Так, поэму «Лейли и Меджнун» Низами посвятил Ширваншахам, а поэму «Семь красавиц» - сопернику Ильдегизидов - одному из атабеков Мараги (Ахмадилизов) Ала ал-Дину.
Низами, как указывалось, жил в Гяндже. Он был женат трижды. Первая и любимая жена, рабыня-половчанка Афак (которой он посвятил много стихов), «величавая обликом, прекрасная, разумная», была подарена ему правителем Дербента Дара Музаффарр ад-Дином примерно в 1170 году. Низами, освободив Афак, женился на ней. Около 1174 г. у них родился сын, которого назвали Мухаммед. В 1178 или 1179 году, когда Низами заканчивал поэму «Хосров и Ширин», его жена Афак умерла. Две другие жены Низами также умерли преждевременно, притом, что смерть каждой из жен совпадала с завершением Низами новой эпической поэмы, в связи с чем поэт сказал:
Низами жил в эпоху политической нестабильности и интенсивной интеллектуальной активности, что отражено в его поэмах и стихах. Ничего не известно о его взаимоотношениях с его покровителями, как и не известны точные даты, когда были написаны его отдельные произведения, так как многое является плодом фантазий его биографов, которые жили позже него. При жизни Низами удостаивался почестей и пользовался уважением. Сохранилось предание о том, что атабек тщетно приглашал Низами ко двору, но получил отказ, однако считая поэта святым человеком, подарил Низами пять тысяч динаров, а позже передал ему во владение 14 деревень.
Сведения о дате его смерти противоречивы также, как и дата его рождения. Средневековые биографы указывают различные данные, расходясь примерно на тридцать семь лет (575-613/1180-1217) в определении года смерти Низами. Сейчас только точно известно, Низами умер в 13 в. Датировка смерти Низами 605 годом хиджры (1208/1209 год) основана на арабской надписи из Гянджи, опубликованной Бертельсом. Другое мнение основано на тексте поэмы «Искандер-наме». Кто-то из близких Низами лиц, возможно, его сын, описал смерть поэта и включил эти строки во вторую книгу об Искандере, в главу, посвящённую смерти античных философов - Платона, Сократа, Аристотеля. В этом описании указан возраст автора по мусульманскому календарю, что соответствует дате смерти в 598 году хиджры (1201/1202 годы):
Творчество
Культура Персии эпохи Низами знаменита благодаря традиции, имеющей глубокие корни, великолепию и роскоши. В доисламские времена она развила чрезвычайно богатые и безошибочные средства выражения в музыке, архитектуре и в литературе, хотя Иран, её центр, был постоянно подвержен набегам вторгавшихся армий и иммигрантов, эта традиция была в состоянии вобрать в себя, трансформировать и полностью преодолеть проникновение инородного элемента. Александр Великий был только одним из многих завоевателей, кто был пленен персидским образом жизни. Низами был типичным продуктом иранской культуры. Он создал мост между исламским и доисламским Ираном, а также между Ираном и всем древним миром. Хотя Низами Гянджеви жил на Кавказе - на периферии Персии, в своем творчестве он продемонстрировал центростремительную тенденцию, которая проявляется во всей персидской литературе, как с точки зрения единства её языка и содержания, так и в смысле гражданского единства, и в поэме «Семь красавиц» написал, что Иран - «сердце мира» (в русском переводе «душа мира»):
Литературное влияние
Большое влияние на Низами оказало творчество персидского поэта XI века Гургани. Позаимствовав большинство своих сюжетов у другого великого персидского поэта Фирдоуси, основу для своего искусства написания поэзии, образность речи и композиционную технику Низами взял у Гургани. Это заметно в поэме «Хосров и Ширин», и особенно в сцене спора влюблённых, которая имитирует главную сцену из поэмы Гургани «Вис и Рамин». Кроме того, поэма Низами написана тем же метром (хазадж), которым написана поэма Гургани. Влиянием Гургани на Низами можно также объяснить увлеченность последнего астрологией.
Своё первое монументальное произведение Низами написал под воздействием поэмы персидского поэта Санаи «Сад истин» («Хадикат аль-Хакикат»).
Стиль и мировоззрение
Низами писал поэтические произведения, но они отличаются драматичностью. Сюжет его романтических поэм тщательно построен так, чтобы усилить психологическую сложность повествования. Его герои живут под давлением действия и должны срочно принимать решения, чтобы познать самих себя и других. Он рисует психологические портреты своих героев, раскрывая богатство и сложность человеческой души, когда они сталкиваются с сильной и несокрушимой любовью.
С одинаковым мастерством и глубиной Низами изобразил как простых людей, так и царственных особ. С особым теплом Низами изобразил ремесленников и мастеровых. Низами нарисовал образы художников, скульпторов, архитекторов и музыкантов, которые часто становились ключевыми образами в его поэмах. Низами был мастером жанра романтического эпоса. В своих чувственно-эротических стихах Низами объясняет, что заставляет человеческие существа вести себя так, как они, раскрывая их безрассудность и величие, их борьбу, страсти и трагедии. Для Низами правда составляла суть поэзии. На основании такого подхода Низами обрушивал свой гнев на придворных поэтов, которые продавали свой талант за земное вознаграждение. В творчестве Низами искал вселенской справедливости и пытался защитить бедных и смиренных людей, а также исследовать невоздержанность и произвол сильных мира сего. Низами предупреждал людей о преходящей природе жизни. Размышляя о судьбе людей и будучи гуманистом, Низами в поэме «Искандер-наме» предпринял попытку изобразить совершенное общество - утопию.
Низами был поэтом-мистиком, однако в творчестве Низами невозможно отделить мистическое от эротики, духовное от светского. Его мистицизм с характерным для того символизмом основывается на сути суфийской концепции. Вместе с тем, известно, что официально Низами не был принят в какой-либо суфийский орден. Более вероятно, что Низами представлял аскетический мистицизм, схожий с мистицизмом Газали и Аттара, к которому склонность поэта к независимым суждениям и поступкам добавила более различимые особенности.
Низами хорошо знал исламскую космологию, и эти знания он претворил в своей поэзии. Согласно исламской космологии Земля располагалась в центре в окружении семи планет: Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна, считавшихся представителями Бога, которые своим движением воздействуют на живых существ и события на Земле. Так, описывая рождение Бахрама и построение его гороскопа мудрецами и звездочетами в поэме «Семь красавиц», Низами, который хорошо разбирался в астрологии, предрек черты характера и судьбу Бахрама:
Низами был твердо уверен, что единство мира можно воспринять посредством арифметики, геометрии и музыки. Он также знал нумерологию и считал, что числа являются ключом от взаимосвязанной вселенной, так как посредством чисел множество становится единством, а диссонанс - гармонией. В поэме «Лейли и Меджнун» он приводит нумерологическое значение своего имени - Низами, называя число 1001:
Язык поэм и стихов Низами отличается необычностью. Низами писал на персидском языке, подняв его на новую высоту благодаря использованию аллегорий, притч и многозначных слов. Он ввёл новые и прозрачные развёрнутые метафоры и образы, создал неологизмы. Низами использует различные стилистические фигуры (гипербола, анафора), повторы (мукаррар), аллюзию, сложные слова и образы, которые объединяет с различными элементами повествования для увеличения силы их воздействия. Стиль Низами также отличается тем, что он избегает употребления обычных слов для описания действий, эмоций и поведения своих героев. Другой особенностью Низами является создание афоризмов. Так, в поэме «Лейли и Меджнун» Низами создал стиль, который отдельные авторы назвали «стилем эпиграмм», а многие из созданных Низами афоризмов стали пословицами. Низами использует в своей поэзии разговорную речь. Его язык богат идиомами, стилистически прост, особенно в диалогах и монологах. Сам Низами назвал свой стиль «гариб», что переводится, как «редкий, новый». Себя же он называл «волшебником слов» и «зеркалом незримого».
Произведения
До наших дней сохранилась только небольшая часть лирической поэзии Низами, в основном это касыды (оды) и газели (лирические стихи). Сохранившийся лирический «Диван» Низами составляет 6 касыд, 116 газелей, 2 кит’а и 30 рубаи. Однако, по словам средневековых биографов Низами, это лишь небольшая часть его лирики. Небольшое число его рубаи (четверостиший) сохранились в антологии персидской поэзии Нузхат ол–Маджалис, составленной персидским поэтом XIII в. Джамалом ал-Дином Халилом Ширвани, однако впервые описанной только в 1932 г.
Основными произведениями Низами являются пять поэм, объединённых общим названием «Пандж Гандж», что переводится с персидского как «Пять драгоценностей», более известных как «Пятерица» (от «хамсе» - персидского произношения арабского слова «хамиса» - «пять»).
Все пять поэм написаны в стихотворной форме маснави (двустиший), а общее количество двустиший составляет 30 000. Поэма «Сокровищница тайн» состоит из 2260 маснави, написанных в метре «сари» (– ? ? – / – ? ? – / – ? –). Поэма «Хосров и Ширин» состоит из примерно 6500 маснави, написанных в метре «хазадж» (? - - -). Поэма «Лейли и Меджнун» состоит из 4600 маснави в метре «хазадж». «Семь красавиц» насчитывает около 5130 маснави в метре «кафиф» (-?--/?-?-/??-). «Искандер-наме», состоящая из двух частей, в общей сложности содержит около 10 500 маснави в метре «мотагареб» (? ? ? / ? ? ? / ? ? ? / ? ?), которым написана поэма Фирдоуси «Шах-намэ».
Первая из поэм - «Сокровищница тайн» - была написана под влиянием монументальной поэмы Санаи (умер в 1131 г.) «Сад правды». В основе поэм «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» и «Искандер-наме» лежат средневековые рыцарские истории. Герои поэм Низами Хосров и Ширин, Бахрам-и Гур и Александр Великий, которые появляются в отдельных эпизодах в поэме «Шахнаме» Фирдоуси, в поэмах Низами помещены в центр сюжета и стали главными героями трёх его поэм. Поэма «Лейли и Меджнун» написана на основе арабских легенд. Во всех пяти поэмах Низами значительно переработал материал использованных источников.
Следует отметить, что в поэмах Низами содержатся уникальные данные, которые сохранились до наших дней именно благодаря его описаниям. Так, например, одним из предметов очарования «Хамсе» являются детальные описания музыкантов, что сделало поэмы Низами главным источником современных знаний о персидском музыкальном творчестве и музыкальных инструментах XII века. Несмотря на интерес Низами к обычным людям, поэт не отрицал институт монархической формы правления и считал, что он является интегральной, духовной и священной частью персидского образа жизни.
Поэма «Сокровищница тайн» раскрывает эзотерические, философские и теологические темы и написана в русле суфийской традиции, в связи с чем служила образцом для всех поэтов, впоследствии писавших в этом жанре. Поэма разделена на двадцать речей-притч, каждая из которых является отдельным трактатом, посвященным религиозным и этическим темам. Каждая глава завершается апострофой (обращением) к самому поэту, содержащей его литературный псевдоним. Содержание стихов указывается в заглавии каждой главы и написано в типичном гомилетическом стиле. Истории, которые обсуждают духовные и практические вопросы, проповедуют справедливость царей, исключение лицемерия, предупреждают о суетности этого мира и необходимости готовиться к жизни после смерти. Низами проповедует идеальный образ жизни, привлекая внимание к своему читателю людей высшего социального положения среди творений Божьих, а также пишет о том, что человек должен думать о своем духовном предназначении. В нескольких главах Низами обращается к обязанностям царей, но в целом он скорее обращается ко всему человечеству, чем к своему царственному покровителю. Написанная в высоко риторическом стиле поэма «Сокровищница тайн» не является романтической эпической поэмой, её цель - переступить ограничения придворной светской литературы. Этим произведением Низами продолжил направление, которое открыл в персидской поэзии Санаи и которое было продолжено многими персидскими поэтами, ведущим среди которых является Аттар.
Поэма «Хосров и Ширин» - первый шедевр Низами. При её написании Низами испытал влияние поэмы Гургани «Вис и Рамин». Поэма «Хосров и Ширин» стала поворотной точкой не только для Низами, но и для всей персидской поэзии. Более того, её считают первой поэмой в персидской литературе, достигшей полного структурного и артистического единства. Это также суфийское произведение, аллегорически изображающее стремление души к Богу; но чувства изображены настолько живо, что неподготовленный читатель даже не замечает аллегории, воспринимая поэму как романтическое любовное произведение. В основе сюжета поэмы лежит правдивая история, и герои являются историческими личностями. Низами утверждал, что источником для него послужила рукопись, хранившаяся в Барде. История жизни Хосрова II Парвиза (590-628 гг.) была описана в исторических документах и подробно рассказана в эпико-исторической поэме Фирдоуси «Шахнаме». Однако о событиях, связанных с восхождением на престол Хосрова II Парвиза и годами его правления, Низами упоминает лишь кратко. В своей поэме Низами рассказывает о трагической любви Хосрова, сасанидского царевича, затем шаха Ирана, и прекрасной армянской принцессы Ширин, племянницы (дочь брата) Шемиры (звали Мехин Бану) - могучей правительницы христианского Аррана (Албании) вплоть до Армении, где они проводили лето. За этим сюжетом скрыта история души, погрязшей в грехах, которые не дают ей, при всем желании, соединиться с Богом.
Поэма «Лейли и Меджнун» разрабатывает сюжет старинной арабской легенды о несчастной любви юноши Кайса, прозванного «Меджнун» («Безумец»), к красавице Лейли. Эта романтическая поэма относится к жанру «удри» (иначе «одри»). Сюжет поэм этого жанра прост и вращается вокруг безответной любви. Герои удри являются полувымышленными-полуисторическими персонажами, и их поступки похожи на поступки персонажей других романтических поэм этого жанра. Низами персифицировал арабскую-бедуинскую легенду, представив героев в качестве персидских аристократов. Он также перенес развитие сюжета в городскую среду и добавил несколько персидских мотивов, украсив повествование также описаниями природы. В основе сюжета поэмы легенда о трагической любви поэта Кайса и его двоюродной сестры Лейлы, но существует и общий смысл поэмы - безграничная любовь, находящая выход лишь в высокой поэзии и ведущая к духовному слиянию любящих. Поэма была опубликована в различных странах в различных версиях текста. Однако иранский ученый Хасан Вахид Дастджерди в 1934 г. осуществил публикацию критического издания поэмы, составив её текст из 66 глав и 3657 строф, опустив 1007 куплетов, определив их как более поздние интерполяции, хотя он допускал, что некоторые из них могли быть добавлены самим Низами.
Название поэмы «Хафт пейкар» дословно можно перевести как «семь портретов», также возможно перевести как «семь принцесс». Поэма известна и под названием «Хафт гундбад» - «семь куполов», что отображает метафорическое значение названия. Сюжет каждой из семи новелл - любовное переживание, причём, в соответствии с переходом от чёрного цвета к белому, грубая чувственность сменяется духовно просветлённой любовью.
Сюжет поэмы основан на событиях персидской истории и легенде о Бахраме Гуре (Бахрам V), сасанидском шахе, отец которого, Йездигерд I, двадцать лет оставался бездетным и заимел сына только после того, как обратился к Ахура Мазде с мольбами дать ему ребёнка. После долгожданного рождения Бахрама по совету мудрецов его отправляют на воспитание к арабскому царю Номану. По приказу Номана был построен прекрасный новый дворец - Карнак. Однажды в одной из комнат дворца Бахрам находит портреты семи принцесс из семи разных стран, в которых он влюбляется. После смерти отца Бахрам возвращается в Персию и восходит на престол. Став царем, Бахрам предпринимает поиски семи принцесс и, отыскав их, женится на них.
Вторая тематическая линия поэмы - превращение Бахрама Гура из легкомысленного царевича в справедливого и умного правителя, борющегося с произволом и насилием. Пока взошедший на престол Бахрам был занят своими женами, один из его министров захватил власть в стране. Неожиданно Бахрам обнаруживает, что в делах его царства царит беспорядок, казна пуста, а соседние правители собираются на него напасть. Расследовав деяния министра, Бахрам приходит к выводу, что тот виновен в бедах, постигших царство. Он приговаривает злодея-министра к смертной казни и восстанавливает справедливость и порядок в своей стране. После этого Бахрам приказывает превратить семь дворцов своих жён в семь зороастрийских храмов для поклонения Богу, а сам Бахрам отправляется на охоту и исчезает в глубокой пещере. Пытаясь найти дикого осла (g?r), Бахрам находит свою могилу (g?r).
Низами считал поэму «Искандер-наме» итогом своего творчества, по сравнению с другими поэмами «Хамсе» она отличается некоторой философской усложнённостью. Поэма является творческой переработкой Низами различных сюжетов и легенд об Искандере - Александре Македонском, образ которого Низами расположил в центре поэмы. С самого начала Александр Македонский выступает как идеальный государь, воюющий только во имя защиты справедливости. Поэма состоит из двух формально независимых частей, написанных рифмованными куплетами и согласно метру «мотакареб» (аруз), которым написана поэма «Шахнаме»: «Шараф-наме» («Книга славы») и «Икбал-наме» или иначе «Кераб-наме» («Книга судьбы»). «Шараф-наме» описывает (на основе восточных легенд) жизнь и подвиги Искандера. «Икбал-наме» композиционно делится на два больших раздела, которые можно озаглавить как «Искандер-мудрец» и «Искандер-пророк».
Долгое время вызывало сомнения время создания поэмы и очередность её расположения внутри сборника «Хамсе». Однако в начале «Шараф-наме» Низами сказал, что ко времени написания тех строк уже он создал «три жемчужины» перед тем, как начать «новый орнамент», что подтвердило время создания. Кроме того, Низами оплакивает смерть Ширваншаха Аксатана, которому Низами посвятил поэму «Лейли и Маджнун», и адресует свои наставления его преемнику. Ко времени завершения поэмы власть династии Ширваншахов в Гяндже ослабла, поэтому Низами посвятил поэму малеку Ахара Носрат-аль-Дин Бискин бин Мохаммаду, которого Низами упоминает во введении к «Шараф-наме».
Основные эпизоды легенды об Александре, которые известны в мусульманской традиции, собраны в «Шараф-наме». В «Икбал-наме» Александр - бесспорный властитель мира, показан уже не как воин, но как мудрец и пророк. Не менее существенную часть составляют притчи, не имеющие прямого отношения к истории Александра. В завершение Низами рассказывает о конце жизни Александра и обстоятельствах смерти каждого из семи мудрецов. В этой части добавлена интерполяция о смерти самого Низами. В то время как «Шараф-наме» относится к традиции персидской эпической поэзии, в «Икбал-наме» Низами продемонстрировал свои таланты дидактического поэта, рассказчика анекдотов и миниатюриста.
Низами в средние века
Доулатшах Самарканди назвал Низами самым изысканным писателем эпохи, в которую он жил. А Хафиз Ширази посвятил ему строки, в которых пишет о том, что «все сокровища прошедших дней не могут сравниться со сладостью песен Низами».
Труды Низами оказали громадное влияние на дальнейшее развитие восточной и мировой литературы вплоть до XX века. Известны десятки назире (поэтических «ответов») и подражаний поэмам Низами, создававшихся начиная с XIII века и принадлежащих в том числе Алишеру Навои, индоперсидскому поэту Амиру Хосрову Дехлеви и др. Многие поэты в последующие века имитировали творчество Низами, даже если они не могли сравнятся с ним и, конечно, не смогли превзойти его, - персы, турки, индусы, если назвать только наиболее важных. Персидский ученый Хекмет перечислил не менее сорока персидских и тридцати турецких версий поэмы «Лейли и Маджнун».
Творчество Низами оказало большое влияние на дальнейшее развитие персидской литературы. Не только каждая из его поэм, но и в целом все пять поэм Хамсе, как единое целое стали образцом, которому подражали и с которым соперничали персидские поэты в последующие века.
С сюжетами произведений Низами тюркоязычные читатели ознакомились ещё в средние века по подражаниям его поэмам и своеобразным поэтическим ответам тюркоязычных поэтов.
Поэмы Низами предоставили персидскому искусству миниатюры обилие творческого материала, вместе с поэмой Фирдоуси «Шахнаме» став наиболее иллюстрированными среди произведений персидской литературы.
Переводы и издания произведений Низами
Первые переводы произведений Низами на западноевропейские языки стали осуществляться, начиная с XIX века. В 1920-30-х годах русские переводчики и исследователи перевели отдельные фрагменты из поэм «Семь красавиц», «Лейли и Меджнун» и «Хосров и Ширин». Перевод всех сочинений Низами с персидского на азербайджанский осуществлен в Азербайджане.
Первую попытку критического издания поэм Низами предпринял Хасан Вахид Дастджерди, осуществив издание поэм в Тегеране в 1934-1939 гг. Одним из лучших изданий произведений Низами является издание поэмы «Семь красавиц», которое было осуществлено Хельмутом Риттером и Яном Рыпкой в 1934 г. (Prague, printed Istanbul, 1934) на основании пятнадцати рукописей с текстами поэмы и изданной в Бомбее в 1265 г. литографии. Это одно из немногих изданий классического персидского текста, в котором применена строгая текстово-критическая методология.
Значение творчества
И. В. Гёте создал свой «Западно-восточный диван» под влиянием персидской поэзии. В «Комментариях и эссе относительно Западно-восточного дивана» («Noten und Abhandlungen zum West-?stlichen Divan») Гёте отдал дань уважения Низами в числе таких персидских поэтов, как Фирдоуси, Анвари, Руми, Саади и Джами, однако наибольшее влияние на Гёте при создании «Западно-восточного дивана» оказала поэзия Хафиза и его «Диван». В самом же сборнике «Западно-восточный диван» Гёте обращается к Низами и упоминает героев его поэм:
В «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина Низами называется «персидским стихотворцем XII века» и упоминается в связи с рассказом о походе руссов в поэме «Искандер-наме». «Одним из славнейших эпических поэтов Персии» называет Низами в труде «О древних походах руссов на Восток» историк-востоковед В. В. Григорьев. По его мнению, Низами «был учёнейшим и славнейшим мужем своего времени». Г. Спасский-Автономов, командированный в Тегеран для изучения персидского языка, свидетельствует, что «между поэтов персидские критики выше всех славят Низами». Г. Спасский-Автономов пишет, что Низами «был суфа - то есть мистик». Свой особый интерес к творчеству Низами он объясняет тем, что в Персии поэтов Саади, Фирдоуси и Анвари называют пророками, а Низами - богом среди поэтов.
По мнению авторов «The Encyclopedia Americana», хотя в начале XX в. имя и творчество Низами не было широко известно на Западе, в Персии он считается одним из классиков персидской литературы, среди которых он, возможно, второй после Фирдоуси. В начале ХХ в. Низами в Персии почитался одним из семи великих персидских поэтов.
В Иране творчество Низами до сих пор пользуется большой популярностью. У иранцев с древности существует традиция декламации поэтических произведений, что можно регулярно услышать по радио, наблюдать по телевидению, в литературных обществах, даже в чайных и в повседневной речи. Существует специальный конкурс по декламации поэзии, который называется «Муша-арех». Творчество Низами, его живое слово служит источником и символом этой древней традиции.
Сюжет поэмы «Семь красавиц» («Хафт пейкар») Низами послужил основой для написания оперы Джакомо Пуччини «Турандот», первое представление которой состоялось 25 апреля 1926 года в Милане (Италия), что является иллюстрацией длительной известности Низами, проникающей за пределы персидской литературы.
Азербайджанские композиторы неоднократно обращались к творчеству и к образу Низами, как, например, Ниязи (камерная опера «Хосров и Ширин», 1942), Фикрет Амиров (симфония «Низами», 1947), Афрасияб Бадалбейли (опера «Низами», 1948). Советский композитор Кара Караев дважды обращался к сюжету «Семи красавиц»: вначале им была написана одноимённая симфоническая сюита (1949), а потом, в 1952 году - балет «Семь красавиц», принесший композитору мировую славу. Художественный фильм Азербайджанской студии «Лейли и Меджнун» был снят (1961) на основе одноименных произведений Низами и Физули. Пять фильмов азербайджанских кинематографистов были посвящены Низами, в их числе художественный фильм «Низами» (1982) с Муслимом Магомаевым в главной роли.
Проблема культурной идентичности Низами
Культурная идентичность Низами является предметом разногласий с 40-х годов XX века, когда ряд советских исследователей заявили о наличии у Низами азербайджанского самосознания.
Виктор Шнирельман отмечает, что до 40-х годов XX-го века культурная идентичность Низами не дискутировалась, он признавался персидским поэтом; однако после 1940 года на территории СССР Низами стал на официальном уровне считаться азербайджанским поэтом.
В статье в БСЭ 1939 года под редакцией Крымского Низами называется азербайджанским поэтом и мыслителем. Аналогичного мнения о национальности Низами придерживался и известный советский востоковед Бертельс. После 1940 года все советские исследователи и энциклопедии признают Низами азербайджанским поэтом. После распада СССР ряд постсоветских источников продолжают считать Низами азербайджанским поэтом, однако ряд российских учёных вновь говорит о персидской идентичности Низами.
Азербайджанские исследователи Низами считают, что в стихах поэта присутствуют примеры азербайджанского самосознания. Азербайджанский автор Рамазан Кафарлы полагает, что Низами писал не по-тюркски, а по-персидски, так как «на Востоке можно было бы скорее прославиться и распространить свои воззрения в различных странах посредством персидского и арабского языков».
В свою очередь, иранские исследователи приводят аналогичные примеры персидского самосознания в стихах Низами и отмечают, что в его стихах «тюрк» или «индус» не национальности, а поэтические символы.
За пределами СССР в большинстве академических трудов (в том числе и турецких авторов) и авторитетных энциклопедий: Британника, Лярусс, Ираника, Брокгауз и пр. Низами признается персидским поэтом.
Ряд американских учёных считает, что Низами - пример синтеза тюркской и персидской культур и пример вклада Азербайджана в такой синтез.
Некоторые советские и иностранные учёные полагают, что «азербайджанизация» Низами в СССР в 40-х годах XX века была политически мотивированной государственной акцией.
В 1981 и 1991 годах в СССР были выпущены юбилейные почтовые марки с символическим изображением Низами и надписью, гласящей, что Низами - «азербайджанский поэт и мыслитель».
В 1993 году Банк Азербайджанской Республики выпустил банкноту достоинством 500 манат с символическим портретом Низами Гянджеви.
Мировое признание. Память
ЮНЕСКО, признав годом рождения Низами 1141 год, 1991 год объявила годом Низами в честь 850-летия поэта. В честь 850-летия со дня рождения Низами в 1991 году международные конгрессы, посвященные Низами, прошли в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Лондоне и Табризе.
В 1947 году в Гяндже был воздвигнут мавзолей поэта (на месте древнего, к тому времени разрушенного).
В Баку, Гяндже и других городах Азербайджана есть многочисленные памятники Низами, его именем названы улицы и районы.
- Низами Гянджеви - станция метро (Баку).
- Улица Низами - одна из центральных улиц в Баку.
- Лицей технических и естественных наук имени Низами Гянджеви (Сумгаит).
- Институт литературы им. Низами НАНА.
- Музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.
- Парк им. Низами (Баку).
- Сёла Низами в Геранбойском и Сабирабадском районах Азербайджана.
- Низаминский район в Баку.
Именем Низами был назван кратер на Меркурии. Его именем был назван Ташкентский педагогический институт им. Низами в Узбекистане и село Низами в Армении.
Низами Гянджеви - станция метро (Баку)
Улица Низами в Баку
Низами Гянджеви на почтовой марке Азербайджана 2011 года, посвящённой 870 летию поэта
Многочисленные средневековые тезкиры (записи), различного рода антологии, составленные после смерти Низами Гянджеви не осветили полностью все детали его биографии. Они дают лишь характеристику его творчества. Немало сил приложили современные исследователи истории литературы, чтобы выяснить национальную принадлежность Низами, но и по сей день не удалось выработать мало-мальски достоверную версию.
Низами писал на персидском языке, ибо этот язык в его время был широко распространён на Востоке. Описание своей жизни поэт не оставил. Скудные данные, которыми пользуются учёные извлекаются из его произведений.
Сведения о некоторых деталях биографии Низами можно найти в произведениях таких писателей и учёных как Доулат- шах Самарканд*! («Хроника»), Раванди («Рахас ас-Судур»), Ауфи («Лубал албаб»), Якут («Географический словарь»), ал- Казвини («Асар ал-билад»), Хамдуллах («Тарихи-Гузида»), Джа- ми («Бахаристан»), Таги Куфи («Хуласат ал-ашар»), Амин («Хафт иклим»), Лютф Али-бек («Атеш-кадэ») и другие.
Полное имя поэта в разных трудах представлено по-разному. Например, в книге Ф. Кочарли «Литература азербайджанских тюрков» значится имя: шейх Абу-Мухаммед Ильяс ибн Юсиф.ибн Муайяд Низами. М. Тербият в книге «Данишманди-Азер- байджан» приводит другой вариант этого имени: Низами Абу- Мухаммед Низамаддин Ильяс ибн Юсиф ибн Муайяд Гянджеви В предисловии к книге Низами Гянджеви «Лейли и Меджнун», выпущенной в 1956 году московским Гослитиздатом А. Руста- мов утверждает, что настоящее имя поэта звучит как: Ильяс сын Юсуфа сына Муаяда. А. Бакиханов в книге «Гюлистан- Ирэм» пишет, что поэта звали - Абу-Мухаммед Низамаддин Ильяс ибн Юсиф ибн Муайяд.
На мой же взгляд достоверно только то имя поэта, которое указано на его надгробной плите, а именно: «Это - гробница
I Имеется в виду Государство Кавказской Албании.
светлейшего шейха Низамаддина Маула Абу-Мухаммеда ибн Ильяса ибн Юсуфа ибн Зеки».
Из приведённых примеров видно, что перед именем Ильяс трижды встречается Абу-Мухаммед, дважды Абу-Мухаммед Низамаддин, четырежды - Муайяд и дважды - Зеки. Кто же такие Абу-Мухаммед, Абу-Мухаммед Низамаддин, Муайяд и Зеки. Пока что убедительного ответа на этот вопрос не существует.
Одним из спорных деталей биографии Низами Гянджеви является место его рождения. Одни утверждают, что поэт родился в иранском городе Кум, другие говорят, что его родина - средневековый ширванский город Кум (ныне в Кахском районе Азерб. ССР). Третьи отвергают эти версии и выдвигают свои - мол Низами родился в городе Гянджа. Основная часть литературоведов ссылается на следующие строки из поэмы Низами «Искандер намэ»:
Эй, Низами, отвори клада ворота,
До каких пор будешь клад оберегать?
Хотя я, как жемчужина, потерян в Гяндже,
Родина моя - горной области город Кум
.
Исходя из этого утверждается, что если поэт родился в иранском Куме, то он поэт персидский.
Ныне многие советские литературоведы отвергают обе Версии и считают, что приведённые выше стихи вставлены в поэму поэта после его смерти. Поэтому-де он родился в городе Гянджа, следовательно, является азербайджанским поэтом тюрского происхождения.
Подобные споры свидетельствуют о том, что и поныне учёными не установлено настоящее место рождения Низами Гянджеви. Не известно также кем он был по национальности.
Никто из литературоведов не отрицает, что мать Низами происходила из знатного курдского рода. Об этом свидетельствует и сам поэт в поэме «Лейли и Меджнун»:
Ведь мать моя из курдского селенья
Скончалась. Все земные поколенья
Должны пройти. Все матери умрут,
И звать её назад - напрасный труд.
Его дядю по матери звали Хаджи-Омар. Видный писатель М. Ордубади в историческом романе «Меч и перо», посвящён- ном жизни молодого Низами, свидетельствует о том, что трое его дядей были начальниками отрядов телохранителей халифа и происходили из курдского рода.
Дяди поэта по матери были состоятельными и влиятельными людьми, иначе Низами не смог бы получить блестящее образование и не имел бы доступа в книгохранилища знатных людей, где знакомился с уникальными древними рукописями.
Если мать поэта происходит из такого влиятельного рода, значит и замуж её должны были отдать за знатного человека.
Не надо при этом забывать, что дед поэта Муайяд Зеки, уроженец города Кума, тоже был знатным человеком. На это указывает его псевдоним - Сообразительный, Помогающий. Будучи состоятельным человеком Муайяд Зеки женил своего сына Юсуфа (отца Низами) на сестре знатного курда Хаджи-Омара из Гянджи.
Уместно напомнить, что в 955 году Гянджа была завоёвана Мухаммедом ибн Шаддадом, курдом по происхождению (Б. Бер- тельс. «Низами», Москва, 3956, стр. 27). А до него небольшое курдское княжество неподалёку от Гянджи было впервые создано курдом Михраном. Из рода курдского рода Михранидов происходил и известный полководец Джаваншир.
Курды вокруг Гянджи - несомненно пришлый элемент. Но ведь кто то на этих землях жил до курдов! Что же это за люди и на каком языке они говорили? Академик А. Крымский утверждает, что население на обоих берегах реки Куры говорило на своём старинном особом языке - арранском. Язык этот принадлежал к восточной группе северокавказских языков. Исследователями северокавзаской лингвистики выставлены соображения, что к нашим временам собственно арранский язык сохранил прямых потомков в речи аваро-андийской и речи самур- ской, тогда как родственная им речь нынешних удинцев у Нухи происходит не от собственно албанского языка, а от одного из его диалектов. Существовала ещё с V века на арранском (агван- ском) языке и писменность, имелись на этом языке богослужебные христианские книги и иные произведения церковщины.
Далее академик А. Крымский замечает: «Что касается присутствия тюркского элемента, то собственно Ширван XII века, по-видимому, и вовсе не знал тюрков на своей территории у Гянджи. В остальном Азербайджане тюрские поселения были в XII веке незначительными, но всё-таки имелись». (А. Крымский. «Низами и его современники». Баку, 1981 г., стр. 390-391).
Убедительным доводам А. Крымского противостоят некоторые азербайджанские литературоведы, фальсифицирующие и подтасовывающие факты. Например, А. Сафарлы и X. Юсуфов в книге «Азербайджанская литература древних и средних веков» (Баку, 1982, стр. 79) стараются доказать, что вставленный в «Иокандер-намэ» стих о происхождении Низами, до них дескать толковался неправильно и что, якобы там надо читать не «курд», а «корд», то есть «герой» по-персидски. Для чего это делается, если доказано, что эти строки перу Низами не принадлежат?
Некоторые литературоведы утверждают, что Низами женился трижды и якобы первой его женой была кипчакская рабыня Афаг. Утверждают, что она якобы была подарена поэту дербентским эмиром Бейбарсом ибн Музаффаром за поэму «Сокровищница тайн». Надо отметить, что, во-первых, данная поэма
была посвящена правителю Эрзинджана, что в Малой Азии Фахратдину Бахрам-шаху ибн Дауду. И лишь потом она попала в руки дербентского эмира. Во-вторых, некоторые низамиве- ды придерживаются мнения, что указанная поэма до адресата не дошла и лишь сельджукский историк ибн Биби утверждает, что правитель подарил поэту за эту поэму пять тысяч золотых динаров, пять коней с убранством, пять мулов и дорогое платье с самоцветами.
Неубедительно и то, что Низами, происходивший из состоятельной семьи и написавший дидактико-философскую поэму «Сокровищница тайн» мог жениться на подаренной ему рабыне, побывавшей в гареме дербентского правителя. Ни сан поэта, ни религия, ни среда, ни его окружение не позволяли Низами сделать такой сомнительный выбор.
Однако, Низами мог жениться на девушке из селения Кипчак или Гапцах - первое находится в Кахском районе Азерб. ССР, а второе в Магарамкентском районе Даг. ССР.
Теперь о якобы тюрском происхождении Низами. При этом некоторые недобросовестные исследователи аппелируют к стихам поэта из поэмы «Лейли и Меджнун».
Арабской ли, фарсидской ли фатой
украсишь прелесть новобрачной той,
Но к тюрским нравам непричастен двор,
Нам тюркский неприличен разговор.
Раз мы знатны и саном высоки,
То и в речах высоких знатоки.
Речь идёт о том, что ширван-шах, которому была посвящена поэма «Лейли и Меджнун», считал себя выходцем из среды персидской аристократии. Поэтому он убеждает поэта, что его двор не причастен к тюроким нравам и что он не может нарушить своё обещание, как это сделал некогда тюрок, султан Махмуд Газневи, который не заплатил великому Фирдоуси за поэму «Шах-намэ» ни гроша, хотя обещал невиданный доселе гонорар.
Вот почему приведённые выше стихи не могут служить доказательством тому, что . Он происходил из мест, где испокон веков жили лезгиноязычные народы, и поэтому, кажется, что прав всё-таки академик А. Крымский, призывавший своих коллег осторожно обращаться с фактами и ни под каким предлогом их не фальсифицировать.
Остаётся только добавить, что Низами Гянджеви ни одного слова не написал ни по-азербайджански, ни по-лезгински. Его произведения сотворены на персидском языке.
Забит Ризванов
Памятник Низами в Баку
О жизни Низами известно мало, единственным источником информации о нём являются его произведения, в которых также не содержится достаточного количества надежной информации о его личной жизни, в результате чего его имя окружено множеством легенд, которые ещё более украсили его последующие биографы.
Имя и литературный псевдоним
Личное имя поэта Ильяс, его отца звали Юсуф, деда Заки; после рождения сына Мухаммада имя последнего также вошло в полное имя поэта, которое таким образом стало звучать: Абу Мухаммад Илиас ибн Юсуф ибн Заки Муайад, а в качестве литературного псевдонима он выбрал имя «Низами», которое некоторые авторы средневековых «тадхира» объясняют тем, что ремесло вышивания было делом его семьи, от которого Низами отказался, чтобы писать поэтические произведения, над которыми он трудился с терпеливостью вышивальщика. Его официальное имя Низам ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад. Ян Рыпка приводит ещё одну форму его официального имени Хаким Джамал аль-дин Абу Мухаммад Ильяс ибн-Юсуф ибн-Заки ибн-Муайад Низами.
Дата и место рождения
Точная дата рождения Низами неизвестна. Известно только, что Низами родился между 1140-1146 годами. Биографы Низами и некоторые современные исследователи расходятся на шесть лет относительно точной даты его рождения. По сложившейся традиции, годом рождения Низами принято считать 1141 год, который официально признан ЮНЕСКО. На этот год указывает сам Низами в поэме «Хосров и Ширин», где в главе «В оправдание сочинения этой книги» говорится:
Из этих строк следует, что поэт родился «под знаком» Льва. В той же главе он указывает, что в начале работы над поэмой ему было сорок лет, а он начал её в 575 году хиджры. Получается, что Низами родился в 535 году хиджры. В тот год солнце находилось в созвездии Льва с 17 по 22 августа, из чего следует, что Низами Гянджеви родился между 17 и 22 августа 1141 года.
Место рождения поэта долгое время вызывало споры. Хаджи Лютф Али Бей в биографическом сочинении «Атешкида» называет Кум в центральном Иране, ссылаясь на стихи Низами из «Искандер-намэ»:
Большинство средневековых биографов Низами городом рождения Низами указывают Гянджу, в которой он жил и в которой умер. Академик Е. Э. Бертельс отметил, что в лучшей и старейшей из известных ему рукописей Низами про Кум также не упоминается. В настоящее время существует устоявшееся мнение, принятое академическими авторами, о том, что отец Низами происходил из Кума, но сам Низами родился в Гяндже, и упоминание в некоторых его произведениях о том, что Низами родился в Куме ложное искажение текста. В период жизни Низами Гянджа находилась в составе Сельджукского султаната, просуществовавшего с 1077 по 1307 годы. Следует при этом отметить, что Тафриш, упомянутый в вышеприведённом отрывке из «Искандер-намэ», являлся крупным центром зороастрийской религии и находится в 222 км от Тегерана, Центральный Иран.
Низами родился в городе, и вся его жизнь прошла в условиях городской среды, притом в атмосфере господства персидской культуры, так как его родная Гянджа в то время имела ещё иранское население, и, хотя о его жизни известно мало, считается, что всю жизнь он провёл, не покидая Закавказья. Скудные данные о его жизни можно найти только в его произведениях.
Родители и родственники
Отец Низами, Юсуф ибн Заки, мигрировавший в Гянджу из Кума, возможно был чиновником, а его мать, Ра’иса, имела иранское происхождение, по словам самого Низами, была курдянкой, вероятно, дочерью вождя курдского племени, и, по некоторым предположениям, была связана с курдской династией Шеддадидов, правившей Гянджой до атабеков.
Родители поэта рано умерли. После смерти отца Ильяса воспитывала мать, а после смерти последней брат матери Ходжа Умар.
Доулатшах Самарканди в своем трактате «Тазкират ош-шоара» упоминает брата Низами по имени Кивами Мутарризи, который также был поэтом.
Образование
Низами был, по стандартам своего времени, блестяще образован. Тогда предполагалось, что поэты должны быть хорошо сведущи во многих дисциплинах. Однако и при таких требованиях к поэтам, Низами выделялся своей ученостью: его поэмы свидетельствуют не только о его прекрасном знании арабской и персидской литератур, устной и письменной традиций, но и математики, астрономии, астрологии, алхимии, медицины, ботаники, богословия, толкований Корана, исламского права, христианства, иудаизма, иранских мифов и легенд, истории, этики, философии, эзотерики, музыки и изобразительного искусства.
Хотя Низами часто называют «Хаким», он не был философом, как Аль-Фараби, Авиценна и Сухраварди, или толкователем теории суфизма, как Ибн Араби или Абд Ал-Раззак Кашани. Тем не менее, его считают философом и гностиком, хорошо владевшим различными областями исламской философской мысли, которые он объединял и обобщал образом, напоминающим традиции более поздних мудрецов, таких как Кутб аль-Дин Ширази и Баба Афзал Кашани, которые будучи специалистами в различных областях знаний, предприняли попытку объединить различные традиции в философии, гносисе и теологии.
Жизнь
О жизни Низами сохранилось мало информации, но точно известно, что он не был придворным поэтом, так как опасался, что в такой роли он утратит честность, и хотел, прежде всего, свободы творчества. Вместе с тем, следуя традиции, свои произведения Низами посвящал правителям из различных династий. Так, поэму «Лейли и Меджнун» Низами посвятил Ширваншахам, а поэму «Семь красавиц» сопернику Ильдегизидов одному из атабеков Мараги Ала ал-Дину.
Низами, как указывалось, жил в Гяндже. Он был женат трижды. Первая и любимая жена, рабыня-половчанка Афак, «величавая обликом, прекрасная, разумная», была подарена ему правителем Дербента Дара Музаффарр ад-Дином примерно в 1170 году. Низами, освободив Афак, женился на ней. Около 1174 г. у них родился сын, которого назвали Мухаммед. В 1178 или 1179 году, когда Низами заканчивал поэму «Хосров и Ширин», его жена Афак умерла. Две другие жены Низами также умерли преждевременно, притом, что смерть каждой из жен совпадала с завершением Низами новой эпической поэмы, в связи с чем поэт сказал:

Мавзолей Низами в Гяндже, построенный в 1947 году на предполагаемом месте могилы поэта
Низами жил в эпоху политической нестабильности и интенсивной интеллектуальной активности, что отражено в его поэмах и стихах. Ничего не известно о его взаимоотношениях с его покровителями, как и не известны точные даты, когда были написаны его отдельные произведения, так как многое является плодом фантазий его биографов, которые жили позже него. При жизни Низами удостаивался почестей и пользовался уважением. Сохранилось предание о том, что атабек тщетно приглашал Низами ко двору, но получил отказ, однако считая поэта святым человеком, подарил Низами пять тысяч динаров, а позже передал ему во владение 14 деревень.
Сведения о дате его смерти противоречивы также, как и дата его рождения. Средневековые биографы указывают различные данные, расходясь примерно на тридцать семь лет в определении года смерти Низами. Сейчас только точно известно, Низами умер в 13 в. Датировка смерти Низами 605 годом хиджры основана на арабской надписи из Гянджи, опубликованной Бертельсом. Другое мнение основано на тексте поэмы «Искандер-наме». Кто-то из близких Низами лиц, возможно, его сын, описал смерть поэта и включил эти строки во вторую книгу об Искандере, в главу, посвящённую смерти античных философов Платона, Сократа, Аристотеля. В этом описании указан возраст автора по мусульманскому календарю, что соответствует дате смерти в 598 году хиджры:
| Нжде, Гарегин |
Краткая биография поэта, основные факты жизни и творчества:
НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ (1141-1209)
Низами Гянджеви (настоящее имя Низамаддин маул Абу-Мухаммед ибн-Ильяс ибн-Юсуф ибн-Зека), величайший азербайджанский поэт-романтик, родился, жил и умер в городе Гяндже, почему и получил прозвище Гянджеви. В XII веке Гянджа была важным узловым центром на Великом торговом пути. За два года до рождения поэта город был разрушен сильнейшим землетрясением, а оставшихся жителей перебили или увели в рабство отряды грузинского царя Димитрия. Восстанавливалась Гянджа многие годы, отчего детство и юность поэта прошли на печальных руинах.
О жизни Низами сохранилось мало сведений. Поэт вел замкнутый образ жизни, исследователи его творчества часто называют Низами великим гянджавийским отшельником. Предполагается, что Низами, чтобы прокормить семью, занимался торговлей, но большую часть времени посвящал поэзии и науке. Скорее всего, в молодости Низами учился в медресе Гянджи. В любом случае можно говорить о том, что поэт в совершенстве знал арабский язык и арабскую литературу, был знаком с грузинским и армянским языками, разбирался в христианской литературе - цитировал Евангелие, глубоко изучил восточную философию, читал труды греческих философов. Обширны были познания Низами в астрономии, математике и медицине.
Существуют средневековые источники, утверждающие, что Низами состоял членом тайного ордена ахи - религиозного суфийского братства, распространенного в Средние века на Ближнем и Среднем Востоке. Оно объединяло преимущественно городских ремесленников и торговцев. В качестве военной силы ахи защищали горожан от произвола феодалов и монгольских наместников. Ахи были связаны обрядами и уставом. Во время Крестовых походов по образцу ордена ахи были сформированы священные ордена крестоносцев. С XVI века ахи переименовали в орден бекташи. Со временем он стал главным орденом янычар.
Члены ордена ахи помогали нуждающимся и слабым и тайно карали насильников и злодеев.
Величайшим творением Низами стала «Хамсе», или «Пятерица» - пять романтических поэм. В состав «Хамсе» входят: «Сокровищница тайн» (между 1173-1180 годами), «Хосров и Ширин» (1181 год), «Лейли и Меджнун» (1188 год), «Семь красавиц» (1197 год), «Искандер-наме» (около 1203 года). Все поэмы признаны классическими творениями ираноязычной литературы на языке фарси.
Необходимо отметить, что азербайджанские ученые утверждают, будто
Низами всю жизнь мечтал писать только на азербайджанском языке. Есть
даже свидетельства того, что поэма «Лейли и
Меджнун» должна была быть написана на родном языке поэта. Но
официальным придворным языком Гянджи в те времена был фарси, и условия
выживания вынуждали Низами творить в угоду сильным мира сего.
Многие факты свидетельствуют о том, что помимо «Хамсе» Низами создал до двадцати тысяч бейтов, касидэ, газель, кыт’э и рубаи, но все они были утеряны потомками.
Более-менее ясно проследить жизнь поэта можно только благодаря «Хамсе». Очередная поэма - и Низами является на свет из мрака тайны и снова удаляется в неизвестность.
«Сокровищницу тайн» поэт создал в зрелом возрасте, ему было далеко за тридцать. Он еще холост. На попечении у Низами мать и младшие братья. Отец умер почти нищим, и семья пребывала в страшной бедности. Создавая поэму, Низами явно рассчитывал на признание при дворе какого-нибудь правителя и вознаграждение.
Название поэмы происходит от старинного предания о Мухаммеде. Однажды пророк вознесся на небо и увидел под небесным престолом закрытую на замок дверь. Мухаммед обратился к архангелу Джабраилу (Гавриилу): «Что там?» - «Это сокровищница мыслей, - отвечал архангел, - а языки поэтов - ключи к ней».
«Сокровищница тайн» представляет собой собрание двадцати бесед о смысле жизни и назначении ее. Каждая беседа завершается притчей, разъясняющей смысл обсуждаемого.
Сегодня поэма безоговорочно признается шедевром. Но тогда никто даже не пожелал прочитать ее. У каждого правителя был свой штат придворных поэтов, им не было никакого дела до безвестного торговца из Гянджи. Поэму удалось пристроить к правителю Эрзинджана (ныне это административная единица на северо-востоке Турции) по имени Фахр ад-Дин Бехрамшах ибн Дауд. Шаху было написано посвящение, и поэма отправилась в далекий путь.
Существует предание, будто ибн Дауд пришел в восторг от поэмы и направил в Гянджу богатейшие дары. Однако Низами их не получил. Поэт радовался иному: поэму все-таки прочитали и оценили, о ней заговорили, она стала знаменита.
Прочитал поэму и дербендский атабек. Он пришел в восторг и указал своим придворным поэтам на творение Низами как на вершину современной поэзии. И поэты согласились. А затем выяснилось, что Низами посылал «Сокровищницу тайн» в Дербенд и намеревался посвятить ее атабеку, однако поэму правителю не показали. В великом гневе правитель разогнал всех дербендских поэтов, а Низами послал в дар молодую красавицу рабыню, по происхождению половчанку.
Низами с первого взгляда влюбился в Афак, так звали рабыню, и почти сразу женился на ней. Половчанка стала музой великого поэта. С ее появлением творчество Низами резко изменилось - он стал воспевать женщину и любовь. Как утверждают литературоведы, самые яркие женские образы в «Хамсе» написаны поэтом под влиянием любви к Афак. В 1180 году Афак неожиданно умерла, оставив Низами с маленьким сыном Мухаммедом на руках.
В том же 1180 году Низами получил заказ из самого Исфахана от малолетнего сельджукского султана Тогрула (мальчику в тот год исполнилось всего 10 лет). Низами предлагалось написать для султана поэму. Кончина жены оказалась для поэта сильнейшим потрясением: менее чем за год им был создан непревзойденный шедевр ираноязычной литературы - поэма «Хосров и Ширин». Сюжет был взят из «Шахнаме» Фирдоуси. Героями поэмы стали последний домусульманский шах Ирана Хосров Парвиз и его главная жена Ширин.
Когда поэма была закончена, султан даже не прислал за ней, платить он тем более не собирался. Не один год пролежала рукопись без движения. Низами сделал к ней второе посвящение - Пахлавану, атабеку Гянджи. Но правитель под давлением придворных поэтов отказался принять посвящение. В 1186 году Пахлаван умер. На престол Гянджи взошел брат покойного Кызыл-Арслан. Неожиданно новый атабек вспомнил о Низами и призвал к себе. При встрече он обнял поэта и пригласил к беседе. Под конец встречи Низами подарили великолепный халат и отписали ему захудалую деревню Хамдуниан, которую, поскольку она находилась на границе, регулярно грабили разбойники. Вновь поэт не получил никакого вознаграждения за свой труд, зато поэму стали переписывать и распространять по всему Востоку.
Странной представляется в эти годы судьба Низами. Он женился во второй раз. Вторая жена умерла в 1188 году, и тогда же ширваншах Шемахи пригласил Низами переехать к нему в столицу и заказал новую поэму - по легенде о несчастной любви Лейли и Меджнуна. Разочарованный предыдущим заказом, живущий в постоянной нищете, удрученный смертью жены, Низами намеревался отказать ширваншаху. Но его уговорил сын Мухаммед, который просил обязательно написать в поэме и о нем. Низами включил в свой шедевр целую главу с просьбой к наследнику шемахского престола взять Мухаммеда ко двору.
Новая поэма потрясла весь образованный Восток. Она родила целую литературную волну - в подражание Низами написано более сорока поэм «Лейли и Меджнун». Однако самому поэту за его творение не заплатили, сына ко двору наследника Ширвана не приблизили.
Прошло еще восемь лет. Известно, что в эти годы поэт женился в третий раз. В 1195 году от правителя города Мараги Ала ад-Дина Корпа Арслана Низами получил заказ написать поэму на тему, выбранную самим поэтом. Низами приближался к шестидесятилетнему рубежу. Жизнь подходила к концу, но безденежье по-прежнему одолевало его. И Низами принимается за работу. Он пишет озорную сказочную поэму «Семь красавиц» - о приключениях и любовных похождениях Сасанидского царя Бехрама Гура.
Едва окончив «Семь красавиц», Низами приступил к созданию самой большой своей поэмы «Искандер-наме» («Книга Александра»). Состоит она из двух томов. Первый называется «Шараф-наме» («Книга славы»), второй - «Икбал-наме» («Книга счастья»). Ему уже под семьдесят. Годы берут свое, силы уже не те, что раньше. Уходят из жизни друзья и близкие. В 1200 году умерла последняя жена поэта. Одиночество и предчувствие близкого конца навевали на Низами грустные мысли.
В первой книге описаны придуманные поэтом жизнь, войны и героические подвиги Александра Македонского. Во второй книге Александр представлен царем-философом и пророком. Он должен обойти мир и научить людей истине. В конце путешествия царь достигает пределов прекрасной страны, в которой нет власти, нет бедных и богатых, нет угнетателей и угнетенных, нет воровства и лжи. Люди там не болеют, а умирают только от старости.
* * *
Вы читали биографию (факты и годы жизни) в биографической статье, посвящённой жизни и творчеству великого поэта.
Спасибо за чтение. ............................................
Copyright: биографии жизни великих поэтов
Аннотация
Статья посвящена одному из проблематичных вопросов в области востоковедения. Так, в XVIII веке в одну из поэм всемирно известного азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви были вставлены строки, где якобы Низами говорит, что он родом не из Азербайджана, а из иранского города Кум . Исходя именно из этой информации, начиная с XVIII в., знатоки мирового востоковедения начали считать Иран родиной Низами.
Но в первой половине XX в. известным русским/советским востоковедом акад. Е. Э. Бертельсом было обнаружено, что указанные строки в других рукописях, в том числе и в ранних версиях, отсутствуют, т. е. упомянутые здесь поздние вставки идеологически мотивированных переписчиков в одну из поэм поэта являются грубой фальсификацией. Это открытие привлекло внимание и других советских, в том числе и азербайджанских, ученых, и они тоже подтвердили и дополнили это открытие своими исследованиями (например, акад. Ю. Н. Марр , акад. И. Ю. Крачковский , автор статьи о Низами в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» акад. А. Е. Крымский , азербайджанские ученые Г. Араслы , Дж. Хеят , Р. Алиев и др.).
После выявления данного научного факта все известные советские востоковеды, в том числе и те, которые ранее считали Низами персидским поэтом, изменили свою позицию, окончательно и единогласно признав родиной поэта Азербайджан.
Но в силу того, что все эти дискуссии происходили накануне Второй Мировой Войны и только на страницах русскоязычных журналов, а также по сей день ни в одном западном научном издании не опубликована ни одна статья об этом величайшем открытии Бертельса, на Западе по инерции до сих пор пишут о Низами как о персидском поэте.
Эта статья посвящена вышеупомянутой «Кумской гипотезе», ее окончательному опровержению советскими и азербайджанскими учеными, перечислен ряд аргументов, в том числе и из стихов самого Низами, подтверждающие его тюркско-азербайджанское происхождение.
О некоторых спорных вопросах относительно родины и национальности Низами Гянджеви
Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн-Юсуф ибн-Зеки (около 17–22.08.1141 г. Гянджа [Саnjа], Азербайджан, - 12.03.1209, там же) - величайший поэт, мыслитель и философ Азербайджана, яркий представитель Восточного и мирового Ренессанса. Безвыездно жил и творил в родном городе Гяндже. Был близок ко двору династии Атабеков - Ельдегизидов (1137–1225 гг.), правителей Азербайджана, но от предложений стать придворным поэтом отказывался, довольствуясь небольшими пособиями, которые ему назначали правители Азербайджана. Около 1173 г. женился на тюркской (кипчакской, половчанской) девушке Афак (Аппак ), которую воспел в своих стихах. О его поистине энциклопедическом образовании свидетельствуют обширные познания в математике, астрономии, химии, философии, медицине, истории. Основное сочинение Низами Гянджеви - «Пятерица», состоит из 5 поэм: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц» и «Искандар-наме». Сохранилась также часть лирического дивана.
«Пятерица» оказала огромное влияние на развитие многих восточных литератур. На произведения Низами было написано более сотни ответов-подражаний (назира ) на азербайджанском, узбекском, персидском, турецком, арабском и др. Его творчество - вклад в литературу не только Востока, но и Запада: Гете считал Низами одним из семи гениальных поэтов всех времен и народов [ , с. 336]. Г. Гейне говорил: «Германия имеет своих великих поэтов <…> Но что они по сравнению с Низами» . В тяжелые дни блокады в октябре 1941 г. осажденный Ленинград отмечал 800-летие поэта . Сегодня в Санкт-Петербурге воздвигнут пятиметровый бронзовый памятник Низами . Рукописи его произведений хранятся в крупнейших рукописных фондах мира. Поэзия Низами Гянджеви оказала огромнейшее влияние на литературы и изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов Ближнего и Среднего Востока. Произведения живописи, иллюстрирующие поэмы Низами, хранятся в Британском музее (Лондон), Лувре (Париж), Музее изящных искусств (Бостон), Музее Топканы (Стамбул), Третьяковской галерее (Москва) и др.
В Гяндже на могиле Низами Гянджеви еще с XIII в. был построен гумбез (купол ), а в XX в. на месте его был воздвигнут монументальный мавзолей, который посещают десятки тысяч любителей гениальной поэзии Низами.
О месте рождения Низами Гянджеви
До XVII в. ни у кого не было сомнений в том, что Низами родился, безвыездно жил и умер в Гяндже (откуда и происходит его прозвище Гянджеви, т.е. из Гянджи). В самых достоверных сборниках биографий поэтов, таких как «Ауфи Садид-ад-дин» (XIII в.) и «Доулатшах Самарканди» (XV в.) городом рождения Низами указывается Гянджа, в которой он жил практически безвыездно и в которой умер.
После одного комментария в биографическом сочинении «Атешкида» («Atashkadah» ) Хаджи Лютф Али Бека (XVIII в.) появились сомнения, начались разногласия. В частности, за основу утверждения о том, что Низами родился не в Гяндже а в городе Куме взяты строки из сборника «Атешкиде», цитирующие такой куплет из рукописей «Искандер-намэ»:
До нас дошел единственный экземпляр «Атешкиды» Хаджи Лютф Али Бека. У этого экземпляра вырваны первые четыре страницы биографии Низами, и книга начинаются прямо с «Кумской гипотезы». А что было на вырванных страницах и как комментировал «Кумскую гипотезу» сам Хаджи Лютф Али Бек - не известно.
| Художественное изображение Низами на ковре (музей в Гяндже, Азербайджан) |
| [Изображение:] Памятник Низами в Санкт-Петербурге (на Каменноостровском проспекте) |
Некоторые исследователи трактуют этот куплет в «Атешкида» так: якобы Низами родился в Иране, в 72 км на юг от Тегерана, где расположен город Кум (Qom или Kum ).
Сомнения были разрешены еще в первой половины XX в. после академического подхода к этой проблеме. В XX в. авторитетные востоковеды, занимаясь этим вопросом, выявили, что в старейших рукописях «Искандер-намэ» этой строки нет, а вставка их в поздние варианты «Искендер-наме» - фальсификация.
Авторитетный низамивед акад. Е.Э. Бертельс писал: «Эта строка, как уже было отмечено английским востоковедом Риё - позднейшая вставка и Низами не принадлежит. Это утверждение Риё вполне подтверждается и нашими материалами. В лучшей и старейшей из известных мне рукописей Низами, принадлежащей Национальной библиотеке в Париже и датированной 763 г. хиджри (1360 г. н. э.), этой строки также не имеется» [ , с. 26; Эта мысль повторяется и в других его работ: , с. 304; , с. 67; и др.].
Переводчица произведений Низами на армянский язык Мариэтта Шагинян также утверждала, что упоминание города Кума - всего лишь поздний вымысел и Низами Гянджеви принадлежит Азербайджану: «Это поздние вставки идеологически мотивированных переписчиков в одну из поэм поэта, и проще говоря, фальсификация» [ , с. 19]. Как дополнительное доказательство того, что Гянджи - родной город поэта, М. Шагинян приводит такие слова Гете - одного из самых ранних поклонников творчества азербайджанского поэта в Европе: «Вообще же он (Низами) вел, соответственно своему спокойному занятию, спокойную жизнь под Сельджукидами и был похоронен в своем отечественном (родном) городе Гяндже» [ , с. 50].
Азербайджанский низамивед проф. Рустам Алиев, более подробно анализируя эти строки со стилистической точки зрения, выявил достаточно существенные изъяны: «…Как доказали В. Дастгирди, Е.Э. Бертельс и С. Нафиси (курсив наш. - Дж. М. ), сообщение о том, что якобы Низами родом из Кума, помещено на основе двух бейтов, внесенных текст «Искендер-наме» («Икбал-наме») впоследствии, видимо, патриотами города Кума и поклонниками Низами. Приведем подлинный текст этих бейтов:
Текстолог, знакомый с особенностями поэтики Низами, сразу заметит, что здесь поэт обыгрывает лексическое значение слово «гянджа», которое обозначает «сокровищница».
Если более понятно передать смысл этих строк, то он будет таков: «До каких пор ты будешь оберегать сокровищницу своих мыслей в этом городе-сокровищнице (Гяндже)! Покажи всем, что если ты поймал в этом море мыслей редкую дичь, улов (поэтический образ), сделай доступной всем людям эту сокровищницу мыслей, которую ты накопил». Здесь мы видим также и повторение излюбленной жалобы Низами: «До каких пор ты будешь пленником Гянджи, вырвись из нее на арену мира».
Эти бейты тесно связаны между собой общей мыслью, составляют единое целое. Однако это не помешало последующим переписчикам-интерполяторам (патриотам Кума) вставить между цитируемыми бейтами еще два двустишия:
В этих четырех вставных строчках содержится сразу несколько вопиющих ошибок. Неправильно написано слово «Кухистан», город Кум не имел никакого пригорода, области или округа под названием «Кухистан». Наконец, самое главное, «как показало сравнение текстов „Икбал-наме“, ни в одном из древнейших списков поэмы этих строк нет» [ , с. 23–24].
Кроме этого некоторые востоковеды [ , с. 98; , с. 132–145; и др.] обратили внимание на логические ошибки в подходе «Атешкида». Они заявили, что если даже то, о чем говорится в «Атешкида», правда, из этого куплета не вытекает однозначного вывода, что речь идет об иранском городе Кум. Может, имелся в виду другой город Кум? На Востоке есть несколько местностей с таким названием. Например, недалеко от Гянджы (в 116 км) по сей день имеется населенный пункт Кум, который до VII–VIII в. был большим городом.
Какие народности жили в XII в. в Гяндже?
Тюркоязычные народы - киммерийцы (VIII–VII вв. до н. э.), скифы (VIII–VI вв. до н. э.), саки (до I тыс. до н. э.), а потом хазары (IV–X вв. н.э.) - издавна жили на территории Азербайджана. Значительное присутствие тюрков по всему Кавказу и в Азербайджане (в том числе Северном - в Арране) уже в V в. признается византийскими, грузинскими, арабскими, русскими/советскими учеными и летописями (А. Артамонов, С. Такайшвили, Феофилакт Симмокатта), а также армянскими летописцами (см., напр.: Фавстос Бузанд «История Армении», или «История халифов» Гевонда) .
Известный арабский историк X в. Ибн Джарир ат-Табари, повествуя о событиях VII в., в I томе своего труда «История царей и пророков» пишет: «Хишам бин Мухаммед ал-Калби <…> отправил свою конницу <…> в Азербайджан. В то время Азербайджан был в руках тюрков. Он вступил в сражение с тюрками…» . То есть Азербайджан уже в VII в. был известен как тюркская страна.
«…Ибн Азрак в 1070 году писал, что „Гянджа является великой столицей тюрков“. Якут ал-Хамави (побывавший в Азербайджане в 1213 и 1220-х гг.) пишет: „Мукан - область, в которой много сел и пастбищ. Она заселена туркменами, которые пасут здесь свои стада, и туркмены составляют здесь большинство населения“. Мас’уд ибн Намдар (XII в.) в „Сборнике рассказов, писем и стихов“ подчеркивает, что восстание в Байлакане подняли и возглавили тюрки. В данном произведении, написанном в 1111–1112 гг., подчеркивается преобладание тюркского этноса в аррано-байлаканских событиях. Знаменитый историк Хорезм-шаха Джалал-Дина Мангыбурни Насави неоднократно отмечал, что „в Арране и Мугане тюрки, словно муравьи, неисчислимы“» [ ; а также здесь: , с. 389; ]. Азербайджанский ученый З.А. Кули-заде, комментируя эти высказывания, пишет, что за короткий срок не могли бы тюркские «кочевники» стать большинством и при этом еще и добиться доминирования своего языка в Азербайджане. Они издавна жили в Азербайджане [ , с. 110–111].
Устами Александра Македонского Низами сам сообщает: «От Хазарских высот до Китайского моря, Всю землю я вижу полной тюрков» [ , с. 295; ].
Более подробно о тюрках в ту эпоху можно прочитать в исследованиях [ ; ].
О своей национальности Низами сам и симпатии к тюркству в его произведениях
(Низами Гянджеви «Семь красавиц», юбилейное издание 1981–1985 гг., с. 71)
Проф. Рустам Алиев, так комментирует этот стих: «Этот бейт, содержащийся во всех изданиях и не вызывающий никакого сомнения в подлинности, прежде всего говорит о том, что Низами по национальности был тюрком (азербайджанцем). Жалуясь на жителей Гянджи, которую в приступе отчаяния он сравнивает с Абиссинией, употреблявшейся в тогдашней литературе как символ мрака, невежества и мракобесия, поэт хочет сказать, что он тюрок и его красивые, прекрасные стихи, вкусные, как национальная пища тюркских народов, не ценятся на его родине, ибо желудки титулованных покупателей неспособны переварить такой прекрасной еды, как дугба (окрошка)» [ , с. 24–25].
«Я - жестоко осажденный в городе родном …» (Низами Гянджеви «Семь красавиц», М., 1959, с. 376).
(Низами Гянджеви «Сокровищница тайн»: Рассказ про старуху и Султана Санджара).
Комментарий акад. Е.Э. Бертельса: «Здесь сельджукская знать противопоставляется старой иранской аристократии, которая, очевидно, по мнению Низами, к справедливости не стремилась» [ , с. 193].
«Если он Луна, тогда мы Солнце, Если он Кейхосров, тогда мы - Афрасиабы» (Низами Гянджави «Хосров и Ширин». Из главы «Завещание Михин Бану»).
Комментарии: Кейхосров - древнеиранский, Афрасиаб - победивший его древнетюркский падишах. Низами поэтически сравнивает их: Кейхосров = Луна, а Афрасиаб = Солнце. Персидский поэт не унизил бы или же не уменьшал бы цену героя-правителя «своего» (иранского) народа перед героем-правителем другого (тюркского) народа.
Акад. Ю.Н. Марр (востоковед, сын акад. Н.Ю. Марра) писал: «Неизменный образ „тюрчанки“ как поэтический символ женской красоты <...> многочисленные афористические выражения, языковые обороты, характерные именно для тюркского (азербайджанского) фольклора, народного языка (на что часто указывают специалисты), многие прямые указания и намеки самого поэта, - все это обличает в Низами азербайджанского поэта, говорит о глубоких народных корнях его творчества. Недаром представители персидской интеллигенции, филологи признают, что „Низами - не персидский поэт, он жил и работал в азербайджанской среде, и стихи его непонятны персу“ [ , с. 266].
Известный иранский низамивед Вахид Дастгирди писал: «По обычаю тюрков тело Низами было похоронено в гробнице» [ , с. 26].
Как известно, поэму «Лейли и Меджнун» Низами писал по заказу Ширваншаха Ахсатана (1160–1191). В его письме поэту содержатся такие строки: «Мы высокородные цари и исполняем свое обещание, мы верны своим словам и не поступаем так, как низкородные тюрки - султан Махмуд и Кызыл-Арслан по отношению к тебе. Поэтому ты создай нам подобающие нашему высокому роду, высокие, а не грубые „тюркоподобные“ слова». Комментируя их, академик И.Ю. Крачковский писал: «Это было не столько этническим самовыражением, сколько выражениями амбиции правителя. Несмотря на политическую подоплеку I Ахсатана, его оскорбительные слова задели поэта. Низами реагировал на этот вызов очень яростно и ответил с возмущением. Трудно представить более утонченной издевки по адресу Ширваншаха, чем та, которую содержится в ответе Низами. В расшифровке она звучит так: „хотя ты поднаторел в государственных делах, но ты еще не стал человеком, ибо у тебя нет ни черт вождя, ни свойств полководца, ни достоинств богатыря, ни способностей бойца-героя, ни величия души, ни мудрости, ни справедливости, ни правосудия, ни благородной внешности, ни искренности“ и т.д. В конце призыв „становись тюрком“ дан в условном контексте „если сможешь“.
Это свидетельствует о том, что поэт специально подчеркивал неспособность Ахсатана стать таковым (тюрком). Более убийственного ответа на выпады Ахсатана против тюрков, пожалуй, никто, кроме Низами, не смог бы дать» .
Будучи патриотом Азербайджана, Низами Гянджеви переносит действие многих эпизодов своих поэм на территорию своей родины: в своих произведениях Низами приводит в Азербайджан великого полководца Александра Македонского, который в действительности не бывал там. Героиню известной арабской легенды «Лейли и Меджнун» Лейли в своей поэме (в главе «Лейли отправляется гулять по саду») объявляет тюрчанкой, говоря о тюркское происхождение племени Лейли: «Звали их турчанками, поселившимися у арабов, / Ибо турчанки с арабским станом прекрасны» [ , с.10; , с. 106], в другом месте говорит устами Меджнуна: «Турчанку, для которой я являюсь нерасторопной дичью» [ , с. 10; , с. 93] и т. д.
Имеет ли Низами отношение к Ирану
Исходя из научных фактов все советские востоковеды признали Низами азербайджанским мыслителем, и во всех советских академических изданиях, энциклопедиях Низами представлялся именно так. Но на Западе под влиянием «Атешкиды» по инерции продолжали (и продолжают) считать Низами иранским или же персидским поэтом (см., напр., ). А это связано в основном со следующими доводами: во-первых, «открытие Бертельса» было сделано в 1930-х гг., т.е. тогда, когда весь мир был занят более актуальными проблемами, в том числе экономическим кризисом и предстоящей угрозой войны с Германией. А после войны хаос, голод, разруха, траур в каждой семье. На Западе было не до Низами даже после 1950-х гг. Из-за политических интриг достижения советских ученых не распространяли на Западе, не признавали их или же игнорировали, уменьшали их вклад в науку, если каким-то образом эти открытия доходили до европейских читателей. Лично нам не известна ни одна публикация на Западе, посвященная анализу «Кумской гипотезы» или же «открытию Бертельса». Русский язык (и наука голодной страны рабочих) до Второй мировой войны был не так уж популярен в Европе, чтобы повлиять на научные воззрения. Поэтому откуда знать западным читателям, что «Кумская гипотеза» уже опровергнута, если по этому вопросу там никогда ни вышло ни одной статьи?
Во-вторых, одно из самых авторитетных изданий в Европе - Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, написанная в 1897 г., - представило Низами европейской аудитории как персидского поэта исходя из воззрений XIX в. Это издание продолжает перепечатываться во всем мире по сей день в первоначальном виде, пользуется авторитетом, т.е. продолжает распространять устаревшие сведения о Низами, несмотря на то что автор статьи о Низами в этой энциклопедии академик Крымский после «открытия Бертельса» изменил свою точку зрения относительно национальности Низами: «Теперь, более чем четверть столетия спустя, - писал Крымский после открытие Бертельса, - я эти страницы считаю, конечно, устарелыми в отдельных пунктах <…> Я уже счел нужным частично видоизменить кое-какие свои прежние мнения по вопросам биографии Низами на основании новых моих соображений (курсив мой. - Дж. М. » [ , с. 65]. «Несмотря на персидский язык своих произведений, Низами всецело остается поэтом своего родного Азербайджана, и историю развития азербайджанской литературы надо начинать не с того момента, когда азербайджанцы стали писать по-тюркски, а с более ранних литературных явлений, привлекая сюда и Низами, и других местных авторов, хотя они писали на фарси…». [ , с. 92]. «Надо твердо осознать и признать: азербайджанец Низами, конечно, есть родной азербайджанский поэт, которым Азербайджан может по праву гордиться» [ , с. 93].
Со своей стороны мы сможем добавить, что не только при жизни Низами, но и за последние 500 лет до его рождения и 700 лет спустя после его смерти не существовало государства под называнием «Иран» или «Персия», что делает вообще смехотворными попытки представить его в качестве «персидского» поэта. Низами Гянджеви жил ориентировочно с 1141 по 1209 г., а Иран (Сасанидская Персия - 224–651 гг.) перестал существовать еще за 500 лет до его рождения после победы мусульманских войск над армией Йездегерда. Название «Иран» было «реанимировано» лишь в 1935 г., 700 лет спустя после смерти Низами Гянджеви, и в настоящее время закреплено за страной. Не только при Низами Гянджеви, но и вообще вплоть до ХХ в. этот регион (временами - от Индии до Йемена) управлялся исключительно тюркскими (большей частью азербайджанскими в современном понимании) династиями, сменявшими друг друга. Последняя из них, династия Каджаров, была свергнута в 1925 г. Персидский язык в то время был «международным» языком литературы, так же как арабский был языком науки, а тюркский - военного дела.
Родина Низами город Гянджа никогда не входил в состав Персии. В работах Низами нигде не говорится, что он или его отец были персами. Весь период своей истории Гянджа последовательно входила в состав разных азербайджанских государств: в государство Гамир - созданного тюркоязычными киммерийцами, Ишгуз - созданного тюркоязычными скифами, Сакасена - созданного тюрками саками, Албанию - созданного тюрками-албанами. После выхода Азербайджана из состава Арабского халифата Гянджа управлялась тюркскими династиями Саджидов и Саларидов, далее с середины XII в. по середину XIII в. Гянджа была резиденцией государства Атабеков или же тюркской династии Ильдегизидов. В XIV–XV вв. Гянджа управлялась тюркским династиями Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, а далее тюркской династией Сефевидов. Это были тюркские государства, и современный Азербайджан является их наследником.
Почему Низами писал по-персидски?
Как уже отмечалось, Низами писал не на родном азербайджанском, а на персидском языке. Это объясняется тем, что в тот период персидский язык был своего рода международным языком, «...на Востоке можно было бы скорее прославиться и распространить свои воззрения в различных странах посредством персидского и арабского языков. Для того чтобы созданные им творения не затерялись, он был вынужден следовать требованиям литературного письменного языка своей эпохи» [ , с. 93–100].
«...Все это вместе взятое заставляет пересмотреть укрепившиеся в востоковедении взгляды на персидскую литературу. До сих пор под персидской литературой обычно понимают все, что написано на персидском языке, вне зависимости от того, где и в каких условиях эта литература сложилась. Затем весь этот ложный комплекс приписывают Ирану, понимая под этим ту политическую единицу, которая носит это название в данное время. Однако такое перенесение понятия XX в. на тысячу лет назад, конечно, методологически грубо неправильно. Персоязычная литература сложилась не только на территории современного Ирана, в ее создании принимали участие десятки различных народов. Если мы попытаемся ограничить персидскую литературу только именами тех авторов, которые жили на территории теперешнего Ирана, то все это обилие у нас рассыплется, и в руках почти ничего не останется. Как нельзя сельджукское государство считать Ираном только потому, что в состав его входила, между прочим, и территория современного Ирака, так и связывать персидскую литературу с этой территорией, превращать ее в литературу Ирана - неправильно. Если мы внимательнее присмотримся к этой литературе, скажем, сельджукского периода, то мы увидим, как в ней складываются круги: среднеазиатский, хорасанский, закавказский и др. Работы в этом направлении до сих пор почти не велось, она сложна и требует полного овладения тем наследием, которое до нас дошло, что пока еще литературоведами далеко не достигнуто» [ , с. 16–17].
«…Азербайджанский регион, где Низами жил и писал, в его время только сравнительно недавно стал сценой значимой литературной деятельности на персидском языке. Поэзия на персидском сначала появилась на Востоке, где в Х и XI вв. процветала во дворах у Саманидов в Бухаре и их преемников (тюркской империи) Газневидах, сконцентрированных в восточном Иране и Афганистане. Когда в 1040 г. тюрки-сельджуки распространили свою власть западнее, в Ирак, который был преимущественно арабоязычным, то и персоязычная поэзия также распространилась западнее в султанский двор тюрков-сельджуков. Когда в XII в. сельджуки расширили свой контроль в регионе, их наместники, фактически автономные местные принцы, поощряли персидскую письменность. К середине XII в. много важных поэтов обладали и пользовались их патронажем, и там разработался отчетливый „азербайджанский“ стиль поэзии на персидском языке, который контрастировал с „хорасанским“ или „восточным“ стилем в своей риторической сложности, прогрессивном использовании метафоры и использовании технической терминологии и изображений христианства» .
Со своей стороны мы можем добавить, что до X в. весь Восток писал на арабском языке, но никто всех, кто писал на арабском, не считает арабами. До нашествия монголов весь Восток писал на фарси - из этого не вытекает, что все они персидские ученые или поэты. После XIV в. весь Восток писал на тюркском - и это не означает, что все они тюркские ученые или поэты. В средневековой Европе точно так же языком науки считалась латынь. Юрист ли, врач ли, независимо от того, где он жил и кем был, писал свой труд на латыни. Но ведь никто не называет из-за этого римлянином, скажем, англичанина Уильяма Гарвея (1578–1657), публиковавшего все свои труды на латыни 1200 лет спустя после падения Римской империи.
Кроме Низами в тот период писали на фарси и другие всемирно известные азербайджанские мыслители, например Гатран Тебризи (1010–1080), Хагани Ширвани (1126–1199), Мехсети Гянджеви (1089–1183), Абу-ль-Ала Гянджеви (XII в.), Иззаддин Ширвани, Фелеки Ширвани (1126–1160), Муджир ад-Дин Байлакани (?–1190) и др. А до этого прославились на всем Востоке такие мыслители Азербайджана, как Муса Шахават (VII–VIII вв.), Исмаил ибн Йассар (VII–VIII вв.), Абу-л-Аббас ал-Ама (?–718), Абубакр Ахмед Бардиджи (?–914), Абусаид Ахмед Бардаи (?–929.), Абулгасан Бахманйар ал-Азербайджани (?–1066), Ейналгузат Миянаджи (1099–1131), Хатиб Тебризи (1030–1108) и др., написав свои произведения на арабском языке.
Литература
- . Низами Гянджеви // История всемирной литературы: Энциклопедия: В 8 т. М.: Наука, 1983–1994. Т. II. URL: